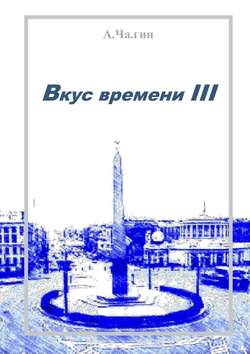Читать книгу Вкус времени – III - А.Ча.гин - Страница 3
III. Всему свое время
ГЛАВА 2
ОглавлениеПостроение развитого социалистического общества явилось главным итогом всех социально-экономических преобразований, осуществленных советским народом под руководством Коммунистической партии. Сбылось предвидение великого Ленина, который подчеркивал, что социализм «творит новые, высшие формы человеческого общежития». Как отметил на ХХIV съезде КПСС генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев, у нас утвердилась, стала реальной действительностью новая историческая общность людей – советский народ. Эта общность сложилась на основе коренных изменений в экономической, социальной и духовной жизни общества, на основе развития в нашей стране социалистических наций, между которыми сложились отношения нового типа.
«Советская Россия», 16 апреля 1975 года.
Что такое след во времени, в памяти? Почему нечаянное слово, легкое воспоминание вновь и вновь, как на яву, приводят к сильным переживаниям? Почему мимолетное эхо своей или отголосок чьей-то чужой жизни возвращает нас к делам давно минувших дней?
А Юрка Петров был для Сашки совсем не чужим. Наивный Щеголев полагал, что юношеская дружба – это как в песне, как в клятве – на всю жизнь и, даже став взрослым и умным, терялся, когда видел что все совсем не так…
Аэропорт «Пулково» окунал любого здесь присутствующего в таинственную и магическую атмосферу дальних странствий.
Морозный и солнечный январский полдень. Саша ожидал самолет из Симферополя. На побывку должен был прилететь молодой моряк Юрка Петров. Он уже отслужил два года на Черноморском флоте и заслужил отпуск. Да, неразлучные друзья так надолго не расставались еще никогда! Два года – для быстротекущей юности это серьезный срок. Сашка с волнением ожидал встречи. Конечно, ему не хватало друга, с которым они провели вместе хоть еще и короткую, но всю свою сознательную жизнь.
И вот объявили посадку долгожданного рейса, вот самолет вырулил к аэровокзалу, вот показались первые симферопольские пассажиры…
Наконец-то появился и Юрка – высокий, загорелый, статный моряк в военной форме с развевающимися ленточками бескозырки! Странно и непривычно было видеть знакомое, родное лицо в обрамлении строгих погон, якорей и «орденов». Но это был он, дружище Юрка!
Ребята крепко обнялись, будто не виделись сто лет, потормошили друг друга и, сияя от радости и забыв об окружающих, принялись за расспросы: «как ты?», «ну что там?», «какие новости?»…
Неделя отпуска пролетела как один миг. За это короткое, но очень емкое время Юрка и Сашка вместе с ним как будто чужими глазами, со стороны, увидели Ленинград, друзей и даже собственную жизнь. Эта неделя, несмотря на свою кажущуюся бесшабашность и праздничность, придала Саше какую-то новую, серьезную черточку, заставила как-то иначе взглянуть и на себя, в том числе. Ведь одно сознание того, что вся эта отпускная мишура вот-вот кончится, и у Юрки наступят действительно суровые будни еще на год, заставляла все время помнить о Будущем. Очень скоро Саша на себе испытает это судорожно-радостное состояние, приехав в отпуск из собственной армии на такую длинную и такую исчезающе короткую отпускную неделю…
Но время, отпущенное суровыми черноморскими капитанами, истекло, пора было с Юрой прощаться. Опять аэропорт. Самолет.
Они расставались. И никто из них не догадывался, что по сути они расстаются уже на всю жизнь, навсегда. Пока Юрка будет служить третий год, Саша уйдет в свою армию на два года и эта долгая разлука станет определяющей в их судьбе. Нет-нет, через несколько лет они еще не раз встретятся, будут мимолетно общаться, опираясь на старую дружбу, но, безоговорочное доверие, какая-то неуловимая близость и чувство юношеского братства до гроба, незаметно растворятся и вскоре пропадут совсем…
Безвозвратно.
Все когда-нибудь кончается, прошло и это…
Мы меняемся?
Взрослеем?
Нами овладевают другие страсти?
Другие интересы?
А когда Саша вернулся из армии, Юра уже был неожиданно женат на Кате Бабич – их однокласснице, имел сына и, отгуляв лихую послеармейскую вольницу, зажил такой необычной, обстоятельной семейной жизнью.
Друзья недолго поработали вместе в Зональном институте, их все еще сближала музыка и новая группа «Синяя птица», в которую Юра сразу после армии пригласил Сашу, но и это продлилось не долго, так как вскоре Петров отошел от музыкального увлечения, поставив перед собой новую великую цель, – купить автомобиль.
И не просто какую-нибудь машину, а новые «Жигули» последней модели. Мысль была, конечно, благая, – кто ж не мечтает? – но вряд ли осуществимая простым молодым человеком в Советском Союзе в семидесятых годах.
И такая воистину грандиозная цель жизни требовала для своего достижения всего человека без остатка. Вполне как у Гете. Шутка ли, имея семью, заработать еще при собственной жизни с зарплатой в сто пятьдесят рублей в месяц – шесть, семь тысяч!
Но Петров стартовал на побитие рекорда.
Юрку не смущали «сложные» обстоятельства добычи средств и он, бросив всех и вся, ринулся в пучину битвы «за металл»!
Сашка, честно говоря, не ожидал от старинного друга, которого он знал как облупленного, такого упорства и даже, можно сказать, упрямства. Правда, задатки подобных стремлений Саша замечал и раньше, – когда они еще работали вместе в Зональном, Юрка удивлял Щеголева приступами модной тогда «фарцовки» с целью обогащения или совершенно серьезным желанием уехать на работу в Тынду или Анадырь, и совсем не за туманами и запахом тайги, а конкретно – за добычей «северных» денег. Именно на этом вопросе Юра концентрировал мысль при расспросах в отделе кадров по найму в эти столь отдаленные места.
Саша, захваченный по простоте душевной романтическим порывом завоевания Арктики, попервоначалу поддержал идею, но трезво прикинув – оно мне надо? – остыл и даже попытался отговорить друга. Но Юра уже умножал месячную гипотетическую зарплату на количество лет контракта и получал заманчивые цифры.
Но не сошлось.
И пошел Юра Петров зарабатывать деньги в родном городе. А где можно быстро заработать в советской стране кроме Севера? В ресторане! Официантом! И не надо ничему учиться. Ну, разве что, хорошим манерам и дежурной улыбке. Впрочем, в советском ресторане не требовалось даже этого.
Спустя пару лет Сашка и Серега Огольцов решили навестить Петрова на месте службы. Юра к тому времени уже серьезно продвинулся на поприще общественного питания и работал в самом шикарном и популярном ресторане Ленинграда – «Невском», куда и попасть-то было проблемой. Но для своих «черное кирильцо», как говорил Аркадий Райкин, всегда было открыто.
Друзья встретились с Юркой в просторном зале на третьем этаже, и, обменявшись новостями, приступили к совместной трапезе с увеселениями. Встреча была радостна и приятна кажется для всех, но была совершенно необычна тем, что хлебосольному хозяину казенного дома, роль которого, естественно, выполнял Юра, за радушие приходилось платить деньги. Саша сидел за столиком и вспоминал их беззаботные пирушки дома у него или у Юрки, когда настоящий хозяин празднества готов был в лепешку расшибиться, чтоб угодить гостям. Причем бескорыстно.
Но не в этом было дело, все понимали – работа есть работа. Просто видеть друга, прислуживающего по обязанности, было неприятно, хотя трезво рассуждая, Саша понимал, что все профессии, конечно, хороши и уважаемы, что советскому человеку везде у нас почет и так далее в том же духе, но… Но, что-то заставляло и Сашку и Серегу вставлять в разговоре «шпильки» по поводу «гарсонов» и «половых», а Юрку их безропотно «глотать». Видимо, Юра справедливо считал, что клиент всегда прав. Да, конечно, так оно и есть!
Как бы там ни было, а Саша Щеголев чувствовал себя почему-то очень неловко, да и Юрка, когда Серега «прищучил» его на недоливе порции вина, тоже совсем потерялся, справедливо сославшись на буфетчика, но праздничный вечер был окончательно испорчен. Горькие строки о потерянной дружбе, но так было. Щеголев не судил друга. Ни в коем случае. Но какая-то фальшь на их пирушке присутствовала.
У каждого своя жизнь и своя правда – их не подгонишь под себя.
А машину – «Жигули-ВАЗ-2102» Юра Петров все-таки купил и довольно скоро. Первым среди их ровесников! Саша только раз прокатился на Юркиной «тачке». А, наверное, мечтал: вот порулю-то всласть на друговом автомобиле! Но не случилось.
Тем не менее, у Саши Щеголева остались о Юрке Петрове, который уже в скором будущем исчезнет из Сашиной жизни бесследно, только добрые и хорошие воспоминания. Воспоминания первой мальчишечьей дружбы, первых юношеских открытий, первых вселенских испытаний, которые сильнее сильного связали их, наверное, навсегда.
Что бы не говорили друзья и знакомые про их отношения, а нелицеприятные высказывания были, Щеголев останется в душе верен старой дружбе на всю жизнь. Их отношения были первым важным сознательным выбором Щеголева и основой формирования его характера. И Саше повезло, что он прошел эту еще узкую изначальную линию судьбы вместе с верным и надежным Юркой Петровым.
Жизнь сыграла с Александром Щеголевым еще одну шутку: он поступил в Художественно-графическое училище Высшей Партийной школы при Ленинградском Областном комитете Коммунистической Партии Советского Союза! Это даже не выговорить!
А как это удалось беспартийному, вечно диссиденствующему и занесенному в «черные списки» Александру, ведомо только Богу, если Он, конечно, имеет хоть какое-то отношение к вышеназванной организации. Это можно было бы принять за выдумку, но это правда.
Учеба в столь закрытом и «элитном» высшем коммунистическом заведении в творческом плане мало что дало Саше, но опять же – друзья! В Партийной школе у него появились новые друзья-художники. И, что интересно, совсем не идеологические фанаты.
В те советские времена учеба в подобном заведении давала много преимуществ на ниве социалистического реализма. А уж на поприще коммунистической пропаганды, так и вообще рай. Любому парторгу, как работодателю и организатору наглядной агитации, было трудно спорить с выпускником ВПШ!
Как у Высоцкого про тех же сумасшедших!
В эту «школу» Саша поступал вместе с Серегой Огольцовым, давнишним другом по музыке и творчеству вообще. Сашке всегда было проще что-либо делать с кем-нибудь на пару. Такой уж он был человек.
Сталкиваясь с трудностями, невзгодами Щеголеву всегда было необходимо чувствовать плечо «друга», соратника и вместе с ним пережить очередную темную полоску жизни. Ведь друг всегда поможет, утешит, все объяснит и скажет:
– Это судьба… Пойми и смирись… Начнем сначала!
Правда, в этой роли чаще выступал сам Александр.
В стране царил полный партийный порядок, как потом выяснилось, именуемый «застоем». Порядок, доводящий до одури, то есть до алкоголизма, бандитизма и прочих антиобщественных, чуждых нашему прогрессивному обществу, явлений. Даже советские лидеры, не на долго очнувшись от летаргического сна, стали понимать – надо что-то делать.
В очередную «очистительную» кампанию по сплочению рядов партии против идеологических диверсий Центральный Комитет КПСС решил вразумить и художественную элиту. Так сказать, поставить на истинный путь свой авангард застрельщиков и популяризаторов идеи всеобщего равенства и братства, возвратиться, так сказать, к временам «Окон РОСТА». В общем, новые луначарские выпустили циркуляр о повышении социалистической компетенции художников на местах. То есть, было приказано вправить мозги.
Коммунистические идеологи во главе с неувядающим Михаилом Сусловым наконец-то перешли к новым методам и решили создать Художественное училище при ВПШ для простых советских богомазов и вождеписцев. Дело было новое, перспективное – и грех было не воспользоваться!
И Александр с Сергеем с каким-то хулиганским азартом и без сомнений решились поступать.
Помимо общих художественных и композиционных экзаменов, необходимо было представить развернутое направление от предприятия и, главное, рекомендацию от парткома! А Щеголев не был даже комсомольцем. К тому же он тогда еще работал в Зональном институте и опасался, что слух о его ходатайстве дойдет до Первого отдела и тогда уж точно крышка! Ведь свое обещание «Ивану Ивановичу» он не выполнил и в творческом поиске не «нашел» себя среди бойцов невидимого фронта.
Но как-то все образовалось, и Саша поступил-таки на декоративно-художественный факультет, с блеском пройдя все экзамены и собеседования.
О самом ученье в этом странном заведении можно сказать, что оно, тем не менее, было достаточно плодотворным, хотя бы в общем понимании таких художественных величин как цвет и композиция Коммунизма, размер и форма Советской идеологии. Кстати, одним из курсовых проектов была именно композиция на тему «Великая Октябрьская Революция – главное событие ХХ века!». Без комментариев.
Саша с Сергеем занимались на курсе прославленного графика (как он сам себя называл) Левона Айрапетянца. Товарищ Айрапетянц, прежде всего, поражал студентов своим изысканным видом европейского денди и, конечно, такой же изысканной риторикой. Лектором он был интересным и замечательным, но Щеголеву за весь период обучения удалось увидеть только одну работу уважаемого ректора, выставленную почему-то в Музее Этнографии. Но это мелочи по сравнению с мировой революцией. Левон Ервандович действительно заслуживал уважения, граничащим с восхищением одним тем, что он рискнул влить в стройные ряды и колонны партийного и художественно-социалистического образования столь крамольную массу, как действующих художников-оформителей.
На курсе встречались, конечно, иногда и комсомольцы, и члены партии, но в основном в прекрасных аудиториях великолепного Дома Политического Просвещения на площади Пролетарской Диктатуры напротив Смольного института Ленинградского Обкома КПСС занимались оголтелые антисоветчики и политические циники.
Таким образом, для Щеголева наглядно подтвердился факт того, что не все социалистические реалисты были реальными социалистами!
Действительно, училище наполняли разные люди – «зубр» наглядной агитации Рудольф Дериф, юный Боря Эскин, похожий на Карла Маркса в молодости, рассудительный до тошноты «дядя» Коля Стругов, суматошный фотограф Женька Мальков и еще много других оригинальных личностей.
Одним из таких оригинальных был и Володя Птицын, который в их творческом коллективе особенно отличался своим здравым цинизмом. Птицын был шутником и балагуром, но в меру, без настырности. Он был легок в общении, открыт и прям. И эти качества Володи позволили Саше продлить их дружбу на долгие годы. А изначально они сошлись опять же на почве рок-н-ролла. Как уже говорилось ранее, Володя еще совсем недавно играл в знаменитой группе «Россияне» и поговорить «старым» рокерам было о чем.
Щеголев в конце века, встретившись с Володей после значительного перерыва, отметил, что он, в отличие от многих и многих других художников, не изменил профессии, а как человек, несмотря ни на какие «трудности», остался тем же самым оптимистичным шутником и добрым издевателем. Птицын, не в пример лучшему Сашиному другу Огольцову, никогда не кривил душой. И «виртуозные махинации» Сереги теперь они уже переживали вместе, понимающе ухмыляясь при очередных завихрениях приятеля.
Вместе с Володей Саша сотрудничал в многотиражках, оформляя заставки и делая иллюстрации к производственным и бытовым статьям. Как-то Саше досталась благодатная тема – фонари и решетки Ленинграда, продолжавшаяся из номера в номер. Работа была интересной и денежной. Щеголев поделился ее частью с Птицыным, а тот в ответ предложил Саше сделать несколько карикатур на свободную тему в какой-то другой газете. Карикатуры стали вообще отдельной темой их работы, и «продукцию» Щеголева и Птицына печатали даже центральные ленинградские газеты. Такое было время – оставалось только сдержано хихикать.
Насыщенные событиями и знаниями учебные годы не прошли даром – помимо весомого диплома Высшей Партийной Школы и значительно повысившегося агитационного мастерства, Щеголев получил возможность завершить образование, но уже не партийно-художественное, а художественно-промышленное. Но судьба распорядилась по своему, и в дальнейшей Сашиной жизни никакие формальные дипломы уже не пригодятся.
Тем более, диплом ВПШ.
Однако этот диплом все же помог друзьям внести свой выдающийся вклад (как они считали) в оформление родного города. Да не где-нибудь, а у стен культового Смольного института – символа коммунистической власти всей страны!
Реклама в эти годы была представлена разве что афишами кинотеатров или абстрактными призывами летать самолетами Аэрофлота (других кампаний и не было, так что эта, часто неоновая, реклама призывала впустую). На многочисленных стендах художники рисовали совсем другие призывы: «Решения ХХ съезда КПСС – в жизнь!», «Экономика должна быть экономной!», образы Ленина в различных ракурсах с кепкой и без, и всякую другую галиматью, которой Сашу Щеголева классно обучили в ВПШ.
Какими-то неведомыми путями в руках у споен…, простите, спаянного коллектива друзей-художников оказался договор на оформление… забора! Но забор принадлежал Мебельной фабрике, был длиной в полкилометра и находился в центре города на площади у Большеохтинского моста! Знатный куш, достойный целого комбината Худфонда или членов Союза Художников, но достался он рядовым коммунистическим школярам! Задача была проста – преобразить серый унылый забор изображениями передовой продукции данного предприятия.
Саша сделал эскизы в стиле «поп-арт», их утвердили на уровне города, и работа закипела. Весь проект оценили в 12 тысяч рублей. Двенадцать тысяч рублей 00 копеек!!! Это две машины «Жигули», если перевести в осязаемое советское богатство или даже в роскошь.
До этого Сашка, как и все творческие советские люди, частенько «халтурил», то есть зарабатывал на стороне по официальным или липовым договорам, но это было даже в хорошем случае 1—2 тысячи рублей на всех, а здесь…
Да, денег было достаточно, но и сроки были сжатые. Собрали бригаду: Птицын, Огольцов, Забродин и Щеголев. Для быстрого, поточного метода расписали обязанности. Что было колоссальным подспорьем, фабрика обязалась сделать огромные планшеты с натянутым и загрунтованным холстом, а то раньше на других халтурах всегда приходилось делать их самим.
Страшным неудобством был размер и забора и, соответственно, планшетов. Приходилось сооружать мостки из подручных стульев и столов, балансировать на этих шатающихся сооружениях. Тогда Саша вспоминал Микельанджело и Рафаэля (не путать с испанским певцом), работавших по росписи соборов под потолком, и становилось сразу легче.
Иногда, для разрядки, музыкант Птицын затягивал:
– Меж берез и сосен инженер Савосин засосал ноль восемь…
– И в глазах, и в глазах его печаль, – подхватывал Щеголев модный мотивчик.
Или уже Саша начинал другую популярную песню:
– Так Птицын кричал, так Птицын кричал…
И Вова продолжал:
– Залейся, залейся, залейся!
В общем, несмотря ни на что, они справились, хотя иной раз приходилось работать и ночами, – все сделали в срок и с отличным качеством. Все, в том числе парторг и директор фабрики, были довольны. Об их творении даже появилась заметка в «Ленинградской правде» как о передовом опыте в пропаганде товаров широкого потребления.
Однако при распределение заработанных денег, как это обычно бывает при дележке несметных богатств, возникли сложности. Тогда Саша применил модный тогда «коэффициент трудового участия». Все было честно – учитывались старые проверенные колхозной практикой «трудо-дни». Даже не количество сделанных планшетов, а просто выход на работу, так как, например, Щеголев работал быстро, но потом приходилось «подчищать» за всеми для приведения к общему стилю, Володя Птицын медленно, но качественно, Серега всегда ответственно. Сашка Забродин, даже когда выходил на работу через раз, слонялся по залу или бегал в магазин за «допингом».
Когда Забродин являлся, прогуляв пару дней, все демонстративно радовались, а Саша все-таки строго спрашивал:
– Ты чего, на себя работаем, у нас же сроки?!
Печальный Забродин отвечал:
– Меня мама не отпустила, велела в прачечную сходить.
– Ты что в очереди в прачечную два дня стоял?
– Ну…, мама еще просила по дому…
Он считал, что его мама является для друзей высшей инстанцией. Все знали его отношения с жесткой мамой, и понять его могли, но дело есть дело. В общем, все остались довольны «коэффициентом», хотя получили по-разному. Кроме Забродина. Но и он потом признал, что все действительно честно.
Это был пример, можно сказать, первой в стране масщтабной рекламы! Ничего подобного в истории Паблик рилейшн СССР еще не было! Да и Паблик рилейшн – PR – еще не было и в помине.
Получив деньги, Щеголев, по наитию, купил вожделенный автомобиль, но не «Жигули», а старинный «Москвич-401», правда в хорошем состоянии и на ходу.
Все это веселое и плодотворное творчество для Саши кончилось печально. В конечном итоге машину в связи с его вынужденным затянувшимся «исчезновением» пришлось продать за гроши, от былых денег осталось только воспоминание, и эта коллективная работа стала последней перед более чем десятилетним полным забвением.
На улице Марата, на которой теперь жил Саша Щеголев, в самом центре Ленинграда, находились художественные мастерские известных и не очень известных художников. Но надо понимать, что даже не очень известные были членами Союза Художников СССР – всемогущей организации в сфере изобразительного искусства всей страны. Иначе никаких мастерских, которые часто превращались в дополнительную жилплощадь, не получишь. По этой улице толпами бродили художники, и не было случая, чтобы Саша, выйдя из дома, кого-нибудь не встретил. Но о всех по порядку.
Одной из заметных фигур на Марата был Володя Сергеев. Не говоря о творчестве, заметной фигурой даже внешне – он был ростом под два метра, очень плотной комплекции и обладал пышной шевелюрой, которую он опоясывал белой ленточкой. Ходить по родной улице и Невскому проспекту Володя предпочитал босиком. Вот с таким типичным советским хиппи Саша и проводил время, мало чем отличаясь от него внешне, разве что ходил он в вельветовых ботинках.
На Марата Сергеев жил, а мастерская у него была на Мойке у Исаакиевского собора – чудное место. Из окна открывался замечательный вид, и Сергеев периодически писал этот один и тот же ленинградский пейзаж в разные времена года. Щеголев иногда притаскивал Сергееву халтуры, и они зарабатывали на жизнь совместным написанием портрета очередного генсека или разработкой какого-нибудь эскизного проекта. И если в портретах мастером был Володя, то уж эскизные проекты Саша намастрячился делать влёт.
Один такой проект, с привлечением еще одного их друга – Володи Алексеева, по оформлению витрин знаменитого Гостиного двора они выполнили за пару месяцев. А сколько там было витрин – уму непостижимо, столько обещали и денег. Друзья получили приличный аванс, и приступили к судорожной работе, для начала по обмеру площадей. Это был адский труд, так как никаких чертежей дирекция им не предоставила. И вот Щеголев с Алексеевым, наравне с манекенами, лазали по витринам универмага, пытаясь разобраться в кубатуре выставочных объемов и идентификации их в своих кроках. Пришлось даже каталог составить. Интересно, что все витрины были разными, и не удивительно – здание ХVIII века архитектора Валлен-Деламота сто раз перестраивалось, и, естественно, коммерсанты за два века за соблюдением архитектурных пропорций не следили. Соответственно, как к памятнику архитектуры, и нужно было относиться, хотя это было трудно сделать реально – все внутри прогнило, и было покрыто слоем вековой пыли. Работа кипела, пыль стояла столбом!
Закончилось все неожиданно и странно. Без объяснения причин директор универмага отменил проект. Что там у них приключилось – торговая тайна, покрытая мраком. Хорошо хоть аванс оставили. Было очень досадно, ведь ребята проделали огромную работу, да и на Гостином дворе, как на главной торговой точке города, можно было сделать себе имя, но с торговыми работниками такого масштаба спорить было сложно, и с этим ничего нельзя было поделать.
У Щеголева дома еще долго лежали эскизы витрин с печатью «Утверждаю» Гостиного двора, которые он безуспешно пытался пристроить в другие магазины, говоря:
– Видите, принято в самом Гостином, мы просто сделали больше вариантов, чем им было нужно!
Иногда, то к Сергееву в мастерскую, то к Щеголеву на Марата заходили два неразлучных друга – Володя Добряков и Костя Елагин. Костя и на самом деле был каким-то пра-, пра-, пра- знаменитому графу, у которого, как известно, на Кировских островах был собственный дворец. Но сегодня Елагин не обладал ничем, он даже не был художником, но умел удивительным образом петь песни Битлз и одновременно изображать все гитары и ударные в одном лице. В поисках веселья, компании и признания собственных талантов, друзья совершали набеги на художественные мастерские, и на Марата их знали и принимали все. Костя и Вова не были навязчивыми ребятами, но иной раз, когда было какое-либо важное дело, они здорово мешали. Зато в минуты (или часы) творческого отдохновенья, им не было равных.
Володя Добряков – сын генерала КГБ, с которым Саша познакомился на почве «безобразного» поведения сына (помогите, пожалуйста, справиться, говорил заслуженный генерал), тоже не был художником, но любил их, и любил танцевать. Он делал это при любом удобном случае, где бы не находился. А когда Костя заводил свою песню, Володя сразу пускался в пляс. С ними невозможно было ехать в общественном транспорте: Елагин, становясь в позу посредине вагона, громко пел в сопровождении всех инструментов, а Добряков плясал свои замысловатые танцы. Народ думал, что они собирают милостыню, и иногда подавал. Щеголев не знал куда деваться. Но все равно это было смешно!
Костя, чудом получив квартиру в соседнем с Адмиралтейством доме на набережной Невы, внезапно умер. Добряков, на горе папе-генералу, после этого затерялся где-то в Ленинградской области, а здоровенный Сергеев в одночасье скончался в больнице от цирроза печени.
Щеголев терял друзей одного за другим, и не по своей воле или плохому характеру, такова была его горькая судьба, и с этим тоже ничего нельзя было поделать.
Да, жизнь сложная штука! И не только из-за смерти, но и из-за рождения. И с этой оригинальной сентенцией на этих страницах вновь появляется Автор. Вынужден появиться, так как Александр Владиславович Щеголев, по понятным причинам, просил особо не распространяться о его личной, интимной жизни, о его встречах и разлуках с некогда любимыми женщинами, Поверьте, Саша ничего не пытается скрыть – кому надо все известно, но он искренне просит прощения у всех им обиженных, даже если прощать нечего. Свою настоящую любовь он найдет много позже, и это примирит в его душе и прошлое, и настояшее.
Что ж, Автор не вправе перечить своему герою, и, только во имя хронологии, ограничится фактической стороной событий. Также по просьбе Александра эта часть полностью будет опубликована в следующей книге – «Вкус времени—4—5» о России XXI и XXII веков (того же Автора), чтобы сегодня не ставить героев этих событий в неловкое положение. Это будет рассказ о грустных и радостных, смешных и драматических пересечениях судеб людей, волею Господа так и не сумевших стать друг другу близкими.
Автор, к тому же, согласен с мнением всех Щеголевых, что очень личные дела, не требующие какого-либо общественного или иного активного вмешательства, не станут занимать читателей. Это несовременное убеждение сильно отличает и самого Автора, и Александра Щеголева от прочих «литераторов», гоняющихся сегодня за «жареными» фактами.
Очень трудно писать о персонажах ныне живущих, давать им оценки и судить их поступки. Мы, люди, можем это делать, только обладая всей полнотой информации о замыслах и действиях другого человека, а это, к счастью, невозможно.
А здесь раскроем только главный смысл этой будущей главы – рождение замечательных ребятишек Анечки и Никиты, вынужденная разлука с которыми, темной болью отразилась на всей остальной жизни Щеголева. Этой краткой фразой, содержащей в себе очень много событий и переживаний, Автор пока и ограничится. Но, безусловно, он обязуется по первому же требованию заинтересованных или пострадавших лиц, представить на суд общественности (и опубликовать в центральных органах), скрытые в этой главе стороны жизни и характера Александра Владиславовича Щеголева!
Бог нам судья.