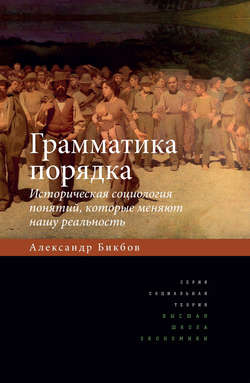Читать книгу Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность - Александр Бикбов - Страница 14
Раздел первый. Генеалогия нового порядка
II. Российский «средний класс»: энергия разрыва и рассеивания
Нормализация «среднего класса» (1990-2000-е годы)
ОглавлениеИменно это усложнившееся и остаточно политизированное представление о позднесоветской социальной структуре служит отправной плоскостью для экспериментов с социальными понятиями, к которым с самого конца 1980-х годов прибегают публицисты, а позже и академические авторы. «Упрощенная» схема даже подвергается партийной критике, вместе с «застывшим образом социалистических производственных отношений… лишенным противоречий и динамизма многообразных интересов… различных слоев и групп»[229]. Однако «изобретение» новых социальных категорий, хотя бы частично обеспеченное исследованиями, происходит медленно не только в случае «среднего класса». В целой серии контекстов, имеющих прямую связь с представлением социальной структуры, академические авторы более десятилетия пользуются позднесоветской терминологией, комбинируя официально санкционированный арсенал с неофициальным словарем «курилок». Так, в первые годы реформ социологи активно обсуждают вопросы общественного распределения при переходе к рыночной экономике, когда государство перестает регулировать зарплаты[230]. Понятие «социальной справедливости» смещается на периферию академической речи уже к середине 1990-х годов и нейтрализуется в количественных технических показателях. Но в начале 1990-х оно определяется через целую серию контекстов, которые сообщают ему острую актуальность: либерализация цен, размер пенсий, плохое снабжение продовольствием, дерегуляция оплаты труда, жилищная проблема, денежная реформа и т. д.[231] Опорные социальные понятия, звучащие в этой дискуссии, – слабо структурированные по социологическим меркам категории «работников», «собственников», «партийных управленцев», «пожилых». А ключевые аргументы, такие как указание на согласие или несогласие с реформами, лишения и преимущества перехода, последствия новой социальной политики, в большинстве случаев отсылают к еще более общим понятиям: «народ», «люди» и даже «человек»[232]. Такую модель высказывания о социальных изменениях укрепляет бурно развивающаяся индустрия опросов общественного мнения, в основу которой положено понятие «населения» как такового. Социальные деления здесь заменяются процентными долями числа опрошенных или, в лучшем случае, сводятся к возрастным и географическим[233].
Можно предположить, что подобный отказ от детализации социальных различий обязан растущей эмпирической неопределенности социальной структуры реформируемого общества. Более обоснованный взгляд, однако, будет заключаться в том, что к концу советского периода понятийное видение социальной структуры уже в высшей степени неопределенно под действием официальной доктрины однородности[234]. Верно, что «переход» размывает границы социопрофессиональных групп, введенные социологами и экономистами ранее. Но какое основание это размытие обнажает? Глобальная трехчастная шкала «рабочие – крестьянство – служащие (интеллигенция)» используется преимущественно доктринально, а не административно уже в позднесоветский период[235]. Классовые деления, в 1920-х годах уложенные в простую бинарную схему антагонистических сил, к 1970 г. переведены в общее разделение на город и деревню, ручной и умственный труд. По сути, в поворотной для политического режима точке доктрина социальной однородности раскрывается как социальная неопределенность. Она оформляет контекст ранних послесоветских дебатов о распределительной справедливости, где отсутствуют сколько-нибудь ясные деления на социальные группы. Это делает невозможной коррекцию сверхоптимистичных проектов ближайшего будущего для всего «народа»: они не вписаны в какой-либо реалистичный горизонт предвидения, который уже в момент «перехода» позволял бы проблематизировать отношения между потенциальными выигравшими и проигравшими.
В этом контексте проект социально неоформленного «среднего класса» звучит как одно из обещаний всеобщего благополучия на фоне резкого снижения общих доходов и политической поляризации. Из сказанного ранее можно понять, в какой мере попытки переизобретения новой социальной категории в послесоветской публичной речи поначалу подчиняются политической самоцензуре, а в какой отвечают libido sciendi – влечению к власти, реализованной в форме понятий и типологий. Центры академической экспертизы, основанные в советский период, в целом редко генерируют новые социальные категории. В первой половине 1990-х годов неопротестованному этосу позднесоветских академических институций, который сдерживает это влечение, противопоставлен политический императив стабилизации нового режима, побуждающий публицистов и обладателей нетривиальных академических биографий первыми предлагать спасительный монолит «средний класс». Введение понятия-проекта «среднего класса» поначалу обязано близости его носителей к центрам политической дискуссии.
Другим источником экспертного и академического вдохновения становится запрос со стороны международных фондов и представительств, которые с переменным успехом утверждают новые социальные и политические категории на зыбкой почве «молодой российской демократии». В первой главе я упоминал о масштабной программе Европейского союза, американских и наднациональных центров, которым принадлежит активная роль в реформе институтов и понятий послесоветского периода. Интерес к «среднему классу» как гаранту международной политической и экономической безопасности обозначен этими центрами влияния еще в середине 1990-х. Но поначалу их воздействие на академическую речь о «социальном стабилизаторе» носит опосредованный характер, пока приоритет в программах поддержки остается за собственно политическими понятиями-проектами, такими как «демократия», «гражданское общество» или «рынок». Уже конце 1990-х ряд крупных эмпирических исследований и дискуссий становится результатом их прямого включения в академические обмены, куда они привносят интерес к перспективным социальным категориям пореформенного российского общества. Тем самым результат, которого не достигает партийная критика конца 1980-х, десятилетием позже восполняет международная грантовая система. Понятие «среднего класса», пережившее публицистический проектный пик в первой половине 1990-х, заново вводится в публичную дискуссию как предмет эмпирической диагностики. Здесь можно упомянуть коллективное исследование «Есть ли средний класс в России?» (1998–1999), которое проводится Российским независимым институтом социальных и национальных проблем по заказу московского представительства немецкого Фонда Эберта[236], исследование Германа Дилигенского «Люди среднего класса» (1997–2000), которое обеспечено грантом Фонда Маккартуров[237], коллективное исследование о «стратегиях среднего класса» по гранту Фонда Форда (2000)[238], а также тематические исследования и дискуссии, поддержанные Центром Карнеги, Тайбейско-Московской Комиссией по экономическому и культурному сотрудничеству в РФ (Тайвань)[239] и некоторыми другими инстанциями. Продолжительность иных программ не ограничивается традиционными для таких случаев одним-тремя годами. Например, Фонд Эберта финансирует серию исследований, где теме «среднего класса» отводится одно из ключевых мест, на протяжении десятилетия[240].
Как участие международных центров влияния в российской академической повестке сказывается на смысле и ценности понятия «средний класс»? То, что обращает на себя внимание: это участие ведет к росту общей ценности понятия, но не к гармонизации смыслов у различных исследователей и в отдельных дисциплинарных сегментах. Серия исследований по-прежнему оставляет под вопросом эмпирический статус новой категории, не в последнюю очередь из-за существенного разброса в оценках ее численности, которые решающим образом зависят от избранных критериев. Ранее я уже цитировал академические тексты, изобилующие оговорками о приложимости понятия к российскому обществу. На академическом подъеме эта неопределенность сохраняется. Хотя количественное описание придает категории «больше» существования, растущий позитивизм в ее определении отнюдь не усиливает проектного libido. Со второй половины 1990-х и далее мы с трудом обнаружим примеры увлеченного пророческого обращения к «среднему классу», в духе Токвиля и Прудона, которые давали бы образцы последующей социоинженерной работе. Более того, в значительной мере социальный проект, который отвечал бы этой категории, остается неочевидным для российских авторов, берущихся за ее исследование. Нередко высказывание о ее значениях содержит эллипсис, например, указание на «определенные социальные функции», которые при этом не определяются[241]. Тем самым многие академические авторы продолжают использовать понятие как заемное, что вполне соответствует логике опережающего интереса к нему со стороны политических игроков и международных инстанций. Единственной общей темой, вокруг который продолжается оживленная дискуссия, остается вопрос о численности и границах «среднего класса»[242]. Разные и даже те же авторы называют цифры от 3,4 до 54 % населения, в зависимости от используемых критериев.
В целом международные центры влияния – отчасти те же, что обеспечивают финансовой и экспертной поддержкой экономический и политический «транзит», – стимулируя интерес к «среднему классу» в академической среде, генерируют не столько когерентный смысл понятия, сколько сам тематический сектор исследований и интеллектуальных событий, тем самым способствуя нормализации термина в публичной речи. Оценить смысловую дисперсию в определениях понятия к концу 1990-х годов позволяют материалы упомянутых дискуссий о существовании в России «среднего класса». Участники одной из них (1999)[243] – не только те, кто на рубеже 1990–2000-х годов проводят свои первые эмпирические исследования по теме (Людмила Беляева, Елена Авраамова, авторский коллектив основного аналитического доклада), но и авторы, использующие вторичные источники: публикации опросов общественного мнения и интервью, – и эксперты-доктринеры, подобные Иосифу Дискину. В ряде случаев они определяют «средний класс» через объективные показатели образования, квалификации и доходов одновременно с субъективной идентификацией (Авраамова). В некоторых случаях результаты не избавлены от проектного содержания, отраженного хотя бы в наименовании подгрупп: например, «идеальный средний класс» у Беляевой. В иных случаях категория определяется через «либеральные настроения», «высокие западные стандарты» потребления (отсутствие которых отмечают несколько докладчиков), нехватку «своих политических партий… осмысленного интереса к центризму» (Евгений Виттенберг), «цивилизованное общество», «ясные перспективы социального роста» и «ориентацию… на собственные силы и возможности» (Авраамова), советскую «политику уравнивания» (Андрей Здравомыслов), проблемное «право на существование нынешнего общества» и редкий для России «рационально-индивидуальный выбор» (Дискин), «культурно-генетические коды российской цивилизации», «доходы», с одной стороны, и «достоинство», не исключающее «социальных выплат и дотаций», – с другой (Андрей Андреев), «трудовую, паразитарную и промежуточную формы экономической деятельности» (Владимир Глаголев), «дух государственности», «гипотетическое “социальное государство”», экономическую, политическую и социальную «целостность» (Николай Сидоров и Александр Авилов), «пополнение за счет криминализованных групп населения» и «готовность к нарушению норм морали» (Анатолий Королев), историческое «насаждение сверху», «неструктурированную и аморфную массу», «манипулирование со стороны различных политических и партийных сил» и даже возможность превращения в «мощный дестабилизирующий фактор» (Валентин Шелохаев). Ожидаемые расхождения также производит тема существования среднего класса в СССР. За каждым из таких расхождений более детальный анализ позволил бы обнаружить институциональные и биографические различия. Однако в данном случае меня больше интересует вопрос о минимальном смысловом ядре понятия.
Поверх указанных различий общими в контексте большинства выступлений и основного текста доклада остаются проектные признаки, введенные в семантическое поле понятия ранее: стабилизация политического режима, роль опоры в модернизации «на основе рыночных и демократических принципов», отказ от «экстремистских тенденций» в политике, самостоятельность и ответственность в организации собственной жизни. Эти признаки вместе с успехом «адаптации к реформам», закрепленные в образцах публичной речи еще первой половины 1990-х годов, удерживаются в политически заданном поле понятия, выражая господствующий консенсус между российскими и международными инстанциями.
Третьим источником введения понятия в публичную речь с конца 1990-х выступают СМИ. Если фигура публициста-трибуна, освященная харизмой авторского суждения, воплощает перестроечную журналистику, по мере профессионализации ремесла его место на публичной сцене занимают штатные журналисты, анонимные составители пресс-релизов, интервьюируемые эксперты и авторы колонок. Именно их работе по содержательному насыщению понятия наглядными признаками обязана третья генетическая линия в истории термина. Проведенный ранее анализ показывает, что до 1998 г. терминологические упоминания в СМИ малочисленны и в основном контекстуализированы в сфере потребления[244]. Это не делает менее интересным детальное описание контекста, в котором вводится понятие, и его сопоставление с медийными публикациями 2000-х. Однако еще более интересен тот факт, что корпус публикаций о финансовом дефолте 1998 г. становится местом конденсации смысла, где уже в форме наглядных обыденных образов повторно актуализируются элементы ранее очерченного политического проекта, результаты первых академических исследований и «экспертные оценки». Как и во Франции 1920–1930-х годов, на сей раз свойства «среднего класса» перепроизводятся преимущественно не через набор позитивных проектных утверждений, а в контексте «кризиса» и признания «жертвой». Исчезнувшему в одночасье «классу» не отказывают в добродетелях, но таковые полностью диссоциированы со «стабильностью», «поддержкой реформ» и прочими высокими предписаниями. Медийные публикации изобилуют сообщениями о таких добродетелях погибшей социальной группы, как «самая активная и трудоспособная часть населения», «преуспевающие молодые люди», умение «модно одеваться, качестенно питаться и не отказывать себе в маленьких радостях жизни», потеря «не таких уж больших сбережений» и т. д. Здесь же актуализируется контекст западности и столичности, например, через указание на «сферу сервиса вокруг огромной колонии иностранцев в Москве»[245].
Парадоксальным образом кризисный контекст играет на повышение ценности понятия, перенося его из отдаленного и неопределенного будущего в ускользающее, ностальгически окрашенное настоящее. При этом мобилизованная группа, которая говорила бы от лица «среднего класса», на публичную сцену не выходит. В результате монополия на высказывание остается за журналистами. Если социологи сомневаются в реальности этой категории до 1998 г., то журналисты тогда же мгновенно признают ее трагическую смерть после краткого, но бурного расцвета. Эта символическая смерть имеет впечатляющие последствия. Осязаемо наблюдаемого «среднего класса» в российском обществе снова нет. Но массив медийных высказываний о «судьбах среднего класса» в контексте «кризиса» побуждает к речи академических авторов, подобно тому как это происходит во Франции 1930-х годов. Так, каждый второй текст участников социологической дискуссии 1999 г. содержит указание на исключительную важность кризиса предшествующего года[246]. Этот эффект распространяется далеко за пределы первой волны публикаций. Упомянутые исследования «среднего класса» приобретают серийный характер в 2000-х годах, а медийный сектор публичной речи отныне становится главным источником в определении смысла и ценности понятия, в том числе используя высказывания социологов и экономистов в статусе экспертных.
Отдельная интрига состоит в том, что финансовый кризис 1998 г. как следующая поворотная точка в истории понятия объективирует уже не только политический запрос на «средний класс». Один из секторов медийного рынка – источник собственного прагматического интереса к этой социальной категории. Речь идет о «деловых» СМИ: еженедельниках и ежедневной прессе, адресованных в первую очередь руководителям и работникам частного сектора, а также более широкой аудитории, следящей за экономической аналитикой и новостями. Численность «среднего класса», который отождествляется с этой аудиторией, потребляющей сами издания и адресно размещаемую в них рекламу, прямо связана с вопросами рентабельности и даже существования этого сектора. Как следствие, вопрос о «выживании среднего класса» в контексте «кризиса» не просто дает материал для множества разрозненных публикаций. В этом секторе СМИ он оформляется в самостоятельный коммерческий и исследовательский запрос. Флагманом в дальнейшем публичном продвижении понятия становится один из центров «деловой» прессы, издательский концерн «Эксперт». В отличие от ежедневных изданий, которые генерируют кратковременный тематический бум, концерн производит систематический эффект. За 13 лет, с 2000 по 2013 г., термин «средний класс» появляется в более чем 600 статьях на страницах главного издания концерна, журнала «Эксперт»[247]. В единичных случаях речь в текстах может идти об «автомобилях среднего класса» или «гостиницах среднего класса», однако в подавляющем большинстве вхождений термин используется в интересующем меня значении – как название социальной категории. Контексты вхождения здесь более вариативны, нежели в академических публикациях, отчасти с ними пересекаясь. На протяжении 13 лет «средний класс» участвует в «капиталистическом развитии», обеспечивает «массовую ипотеку», создает «спрос на обувь и одежду», становится клиентом «обслуживания», переживает «рождение», вызвав шок наблюдателей, «борется за выживание», «занимает нишу», «преодолевает отметку в 30 %», доказывает «рост благосостояния», симпатизирует Союзу правых сил и «Единой России», «заботится о своем здоровье», уверен в том, «что будущее… детей обеспечено», служит «опорой демократии», умеривает «спрос на недвижимость», участвует в террористических организациях (в Пакистане и США), существует за счет «банковского кредита», переживает «снижение доходов», «сидит в своих офисах», не может дождаться «решения своих проблем» в городе, «потоком» покидает моногорода, «стабилизирует практически на всех рынках» свой спрос, отсутствует в стране, которую «получил президент Путин», участвует в «национальном движении» (Украина), становится предметом исследования «Эксперта» и т. д.
Этот последний, исследовательский контекст произведен механизмом, который вносит новый смысл в конструкцию понятия. В 2000 г. журнал «Эксперт» учреждает собственное маркетинговое агентство. Его функция полностью отвечает двойному, коммерческому и познавательному запросу «деловых» СМИ[248]. Исследовательский проект с ежегодным бюджетом 600 тыс. долл. в год, получивший название «Стиль жизни среднего класса», ведется на протяжении более пяти лет, основываясь на ежеквартальных анкетных опросах[249]. В этом отношении он призван составить конкуренцию как другим маркетинговым агентствам, так и экспертным центрам академической социологии. Результаты опросов конвертируются в отдельный продукт, который концерн предлагает на маркетинговом рынке. В ходе создания спроса на информацию о «среднем классе» понятие оснащается новыми характеристиками, например, отождествляется с активными национальными «потребительскими слоями». Конструируя «средний класс» в качестве объекта маркетингового исследования и описывая «не самый крупный, но концентрированный сегмент общества», который «потребляет 70–80 % общего объема товаров и услуг на большинстве потребительских рынков», концерн вводит или усиливает ряд социальных оппозиций, которые образуют проектный контекст «среднего класса» как сегмента потребительского рынка. К числу таких оппозиций относится противопоставление среднего класса «пассивным потребителям», когда концерн предлагает потенциальным заказчикам избегать «лишних издержек… не рассеивая внимание на пассивные потребительские слои населения страны» (с. 7). Маркетинговая прагматика предлагаемого информационного продукта сама выступает неявным горизонтом дополнения и частичного переопределения смысла категории. Подразделение «Эксперта» предлагает использовать полученные данные для «определения настоящего и потенциального объема рынков», «прогнозирования спроса», «многомерного сегментирования потребителей», «планирования рекламных кампаний», «анализа поведения потребителей», «планирования территориального развития» и близких коммерческих задач (с. 8–11). Это сближает смысл понятия с поздними «потребительскими» образцами риторики евробю-рократии, на которых я кратко останавливался в первой главе книги.
Но даже приобретая рыночное значение – не в смысле политического императива свободного рынка, а в смысле одного из сегментов платежеспособного спроса, – проектная категория не полностью редуцируется к экономическому измерению. В определение, которое вводит концерн «деловой» прессы, интегрированы смыслы, произведенные ранее в публицистическом и академическом секторах. К ним также прибавляется характеристика, которая вносит новый элемент во всю историческую конструкцию российского поля понятия. Резюмирующая формула звучит следующим образом: «Российский средний класс – это люди, которые благодаря своему образованию и профессиональным качествам смогли адаптироваться к условиям современной рыночной экономики и обеспечить своим семьям адекватный уровень потребления и образ жизни» (с. 5). Здесь в свойства «средних» включены и квалификация с образованием, и даже адаптация к рыночным реформам. Принципиально новой становится диспозиция заботы – обеспечение «своих семей», – которая не встречается ни в одной из ранее описанных речевых позиций. По сути, введение такого признака – это попытка переопределить весь проект, переведя его из режима политического будущего в осязаемый этический регулятив.
Было бы так же интересно рассмотреть критерии и внутреннюю структуру «среднего класса», как они представлены, с одной стороны, в исследовании «Эксперта», с другой – в упомянутых академических публикациях, например, в докладе РНИСиНП «Средний класс в постсоветской России» (1999)[250]. Это могло бы продемонстрировать конкурирующие логики экспертного оформления понятия-проекта, различным образом использующие средства науки. Не менее красноречивым дополнением к этому может стать анализ риторических стратегий, в частности, использование в тексте «Эксперта» синонимического термина «средние русские», который выполняет в высказывании нормализующую функцию, сходную со ссылками на зарубежные публикации в академических текстах. Наконец, отдельный предмет изучения составляет топика «среднего класса» – набор общих мест, которые не только спонтанно используются в изготовлении понятия в конкурирующих позициях, но и циркулируют в не связанных напрямую хронологических и международных контекстах. К их числу относятся, например, геометрические фигуры ромба и пирамиды, риторическая оппозиция «промежуточного положения» и «крайностей» или отсылка к добродетелям «средних» у Аристотеля, буквально цементирующая воображение о «средних слоях» и «классах» у производителей всех жанров, от авторов университетских учебников до маркетинговых аналитиков[251]. Внимание к этим элементам позволяет уточнить вклад отдельных институциональных позиций в семантику «средних», как и механизмы создания результирующего смыслового ядра. Однако сейчас я хочу уделить внимание не им, а одному свойству понятия, которое плотнее прочих связывает его с актуальностью и объективирует интерес разных авторов к конкретным формам социального воплощения этого проекта.
Императив стабильности режима как основополагающего политического raison d'être российского «среднего класса» в перспективе исследования неизбежно влечет за собой вопрос о собственных политических свойствах этой категории. Какие политические предпочтения и действия предписывают «среднему классу» авторы, занимающие разные позиции в производстве понятия? Какое место среди них отводится такому аргументу существования новой социальной категории, как политическое участие ее представителей? Прежде чем обратиться к предлагаемым в 1990–2000-е годы вариантам, следует снова вспомнить, что в доктринальном советском определении, введенном в сталинском тексте 1923 г., «средним слоям» отводится роль «резерва» и пассивного предмета «завоевания» конкурирующими политическими доктринами. Предельно амбивалентные в политическом отношении «средние» здесь обречены следовать за сильными воздействиями и убеждениями[252]. Дискуссии рубежа 1950–1960-х годов корректируют эту формулу, признавая собственную «борьбу средних слоев». Однако и в скорректированном значении понятия эта борьба имеет ценность и смысл только в контексте союза с «борьбой пролетариата против капиталистических монополий». Публичная речь рубежа 1980– 1990-х годов наделяет «средних» новой степенью автономии: ряд авторов настаивает на их независимости от патерналистского государства и личной ответственности за свою жизнь. Но такая автономия не распространяется на свободу выбора доктрины и любую политическую чувствительность, пока одной из главных добродетелей признается «подлинный центризм, столь необходимый для цивилизованного развития России»[253], включая отказ голосовать за «коммунистов и националистов»[254], а в некоторых случаях – воздержание от любого политического участия, помимо выборов.
Каким бы странным это ни казалось в контексте критики девальвированного советского режима, «средний класс» рубежа 1980–1990-х годов – это квинтэссенция государственного духа будущего в той мере, в какой политическая автономия опорного «класса» нового государства строго ограничена императивами поддержки государственных реформ и господствующей государственной доктрины. Укрепление ценности политической свободы, либеральной экономики и демократии как проектных ожиданий, вписанных в новую социальную категорию, в действительности объективирует крайне узкую политическую чувствительность. Ее нередко разделяют сами авторы высказываний о «среднем классе», спонтанно проецируя ее и на проектную социальную группу. Это делает более понятными политические добродетели, которые приписывают «среднему классу» некоторые авторы рубежа 1990–2000-х годов. Так, Людмила Беляева описывает свойства «идеального среднего класса», который в реальности уже обладает необходимыми проектными чертами, как «наиболее либерально настроенную группу, которая не только получила от реформ наибольшие выгоды… но и настаивает на продолжении реформ, так как ее многое устраивает из того, что произошло»[255]. По мнению Леонида Гордона, единство проектной группы обеспечено ее «склонностью отрицания экстремизма, склонностью принимать и продолжать реформы»[256]. «Ориентация на собственные силы и возможности» также далеко не всегда служит выражением политической автономии. Среди признаков субъектности среднего класса, которые называет Елена Авраамова, нет ни выраженных политических предпочтений, ни политического участия[257]. Ранее я приводил элементы классификационной схемы Татьяны Заславской, которая прямо связывает отдельные позиции в социальной иерархии с готовностью принять государственные реформы. Учредительные действия в элитистской модели модернизации, которую она предлагает, принадлежат «верхнему слою»; политическое участие «среднего слоя» ограничивается исполнением высшей воли.
Споры о существовании среднего класса зачастую описывают его не как самостоятельную социальную силу, но как объект режима экономического благоприятствования и даже как объект отдельной «политики стимулирования развития среднего класса»[258]. В этом контексте использование «степени влияния на принятие властных решений различного уровня» как показателя принадлежности к среднему классу звучит более чем отвлеченно, вернее, достаточно полно укладывается в патерналистскую модель социального управления, которая господствует в позднесоветский период и которой исследователи и публицисты 1990-х годов адресуют жесткую критику. Авторы, признающие примат культуры в описании социальных различий, могут приписывать «среднему классу» высокую степень автономии, но также оснащают его миссией «публичного представительства общества перед ним самим»[259], которая исключает политическое участие. Они квалифицируют эту миссию как «известное бремя социальной и моральной ответственности», которая предполагает, например, способность «вернуть обществу уважение к норме, к нормальности как таковой»[260].
Даже Герман Дилигенский, который противопоставляет сугубо формальным критериям и авторитарным соблазнам в конструировании проектной категории необходимость рассматривать собственную активность групп, отождествляемых со средним классом, в заявленном духе методологического индивидуализма ограничивает сферу этой активности профессиональной самореализацией[261]. Политические свойства, реконструируемые на основании массовых опросов, сводятся здесь к электоральным предпочтениям или согласию с тем или иным доктринальным тезисом: об индивидуальной свободе, социальном равенстве и т. п. Вероятно, это наиболее радикальное выражение того декларативного противостояния патернализму, которое часто звучит в теоретических определениях среднего класса. На полюсе «деловой» экспертизы политические свойства «среднего класса» также остаются неопределенными. В цитированном докладе концерна «Эксперт» политические практики не фигурируют среди потребительских черт[262]. Во всем обширном корпусе экспертной и академической речи о «среднем классе» 1990–2000-х годов, насыщенной рефлексией о его критериях, численности и границах, мы с трудом найдем такой показатель реализации проекта, как производство собственных форм мобилизации и политических институтов. Вероятно, единственным заметным исключением становится книга Бориса Кагарлицкого «Восстание среднего класса»[263]. Но ее политическое высказывание о «бунтующей массе» в наименьшей степени относится к российскому «среднему классу». Автор предлагает критическую диагностику мировых процессов в том экстерриториальном режиме, который сближает ее с моделями контекстуального определения «среднего класса» в некоторых образцах общественной мысли русского XIX века.
Отказ российскому «среднему классу» в политическом участии включает понятие в невидимое смысловое напряжение с, казалось бы, семантически и социально близкой категорией «гражданского общества», которая занимает одно из центральных мест в понятийной сетке нового порядка в начале 1990-х годов. Ранее я указывал на общие элементы контекста, которые позволяют осторожно предполагать наличие диффузного общего проекта, объединяющего эти понятия. На деле признак автономной гражданской и политической активности разводит их на противоположные полюса социального лексикона нового порядка. «Средний класс» как привилегированный «субъект перемен», «субъект модернизации» описывается в качестве обширного социального слоя, расположенного приветствовать отказ государства от всеобщих социальных гарантий, одобрять новый экономический режим, нести основные потребительские расходы из собственного бюджета и голосовать за правоцентристские партии. Строго говоря, по контрасту с «гражданским обществом» такая модель «субъектности» не предполагает иных форм политической мобилизации, помимо молчаливого согласия, и безразлична к компетентности участников социальных обменов в утверждении своих социальных прав и свобод. Этот «класс» обладает всеми необходимыми свойствами для политической мобилизации: образование, квалификация, благосостояние, гражданское сознание – и никогда не рассматривается в качестве ее участника. В этом наборе свойств он без противоречий вписывается в модель политической «стабильности» второй половины 2000-х годов, которая неожиданно оказывается вполне успешным воплощением будущего из проектных ожиданий 1990-х: государством с достатком и без катаклизмов.
Молчаливый отказ «среднему классу» в реализации его потенциала политического участия, который мы наблюдаем в академическом и экспертном секторе, также хорошо согласуется с результатами анализа СМИ, проведенного Ольгой Александровой. По ее наблюдению, в конце 1990-х годов большинство публикаций, посвященных среднему классу и смежным темам, не приглашают к политическому участию, а «отвращают» от него[264]. В этой не вполне явной политической повестке и тех свойствах, в каких авторы отказывают проектной категории, «средний класс» во многом сохраняет деполитизированный и конформистский смысл, несмотря на номинальные предписания эмпирическому референту этого понятия «активной позиции» и стремления к свободе.
Подобный сбой, заложенный в архитектуру понятия, составляет очевидный контраст с оценками ряда международных академических исследователей, для кого наличие «форм коллективного действия, позволяющих… выражать и защищать свои интересы» служит показателем реализации российского проекта «среднего класса»[265]. Именно политическая автономия возвращает понятие в контекст «демократии», из которого de facto оно все отчетливее выпадает в речи российских авторов. Надежды на политическое участие «среднего класса» могут связываться даже не столько с вопросом о его существовании, сколько с наличием сил, деятельно защищающих демократию от внутренних рисков «перехода»: «Представители средних классов могли бы создать гражданские организации и механизмы коллективного действия, которые позволили бы им служить противовесом олигархии и оплотом демократии»[266]. При всех частных расхождениях между российскими авторами, на которые я указывал ранее, их в первую очередь сближают политические критерии, в которых переопределяется социальная структура нового общества. Предписывая «среднему классу» безупречную доктринальную и ценностную дисциплину, а также роль счастливого реципиента государственных реформ, корпус публичных высказываний во многом продолжает линию принудительной социальной гармонии, характерную для позднесоветской доктрины «бесклассового общества».
Таким образом, libido sciendi, лежащее в основании этого понятия-проекта, оказывается не столь выраженным, как этого можно было ожидать ввиду угроз социальной дезинтеграции, массово рассеянных в корпусе публичной речи 1990-х годов, и возможностей, которые открываются для изобретения социальных категорий при «транзитном» размытии социопрофессиональных иерархий. Проектная категория, которая, казалось, разрывает со всеми очевидностями начала 1990-х, всего десятилетием позже вписана в куда менее амбициозное и более проблематичное настоящее, чем это представлялось авторам первой публицистической волны. Период «стабильности», торжественно объявленный в 2000-х годах, санкционирует политический смысл проекта. Признаки «благосостояния» и «умеренности», среди прочих, не просто удерживаются в его семантическом поле, но, благодаря «деловым» и ежедневным СМИ, все более детально переводятся на язык потребительских свойств. И все же, неопределенность, которая по-прежнему отмечает дебаты о существовании «среднего класса» в 1990-х, поддерживает интригу. С ростом числа публичных высказываний (после 1998 г.), которые сообщают широкой аудитории о неведомом классе, тот превращается в тайную, еще не проявившую себя социальную силу, которая, вероятно, зреет где-то в глубинах социального тела. Место в категориальной сетке нового порядка зарезервировано и наделено ценностью, но пока не заполнено осязаемой и наглядной реальностью. Может быть, средний класс лишь ждет шанса явить себя миру?
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу