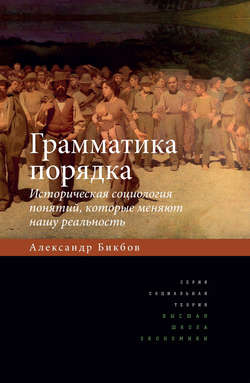Читать книгу Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность - Александр Бикбов - Страница 9
Раздел первый. Генеалогия нового порядка
I. Структура проекта: «средний класс» для «демократии»
Интернационализация «среднего класса»: от стабильности до платежеспособности
ОглавлениеОднако и такой способ конца 1930-х годов определять средний класс не транслируется напрямую в более поздние образцы нормативной и экспертной речи. Следующим ключевым моментом в конструировании этой универсалии становится ее изъятие из национальной истории прогресса и помещение в синхронную перспективу международных сравнений, центром которой служит стабильность демократического правления. Это происходит в период холодной войны и в значительной мере определяется политическим противостоянием двух систем. Неудивительно, что решающая роль в создании нового нормативного языка международных сравнений на сей раз принадлежит не французским политическим мыслителям, а американским экспертным центрам. Любой список стран, подлежащих сравнению и оценке, исходно разделяется на две категории – демократии и диктатуры – с различным числом промежуточных форм и вариаций. Именно в контексте политической поляризации режимов категория среднего класса обретает смысл, который, среди прочих, наследует российская «переходная» риторика 1990-х годов. По своим функциям в системе официальной речи эта категория, вероятно, представляет собой зеркальный инвариант «научного планирования» – понятия, которое регулярно используется как diferentia specif ca «социализма» в позднесоветской официальной риторике[90]. Иными словами, с рядом оговорок, научная организация общества так же отличает социализм от капитализма в советской риторике, как состоятельный средний класс – демократию от диктатуры в риторике американской. Во втором случае лишь воспроизведение образцов «устойчивых демократий», включая их социальную структуру, способно гарантировать развитие и процветание обществ. Определение прогресса XIX в., ассоциируемое с ростом участия в общественных приобретениях, не отменяется здесь окончательно. Новая сетка категорий «просто» превращает его в мировой политический процесс, где демократии вкупе с экономическим ростом присваивается собственная и высшая ценность.
Одним из первых развернутых высказываний, с которым вводится новая категориальная сетка, становится статья о социальных условиях демократии американского политолога и внимательного читателя Токвиля, Сеймура Мартина Липсета (1959)[91]. С момента публикации она удерживается в центре плотного кольца ссылок и интерпретаций, которое распространяется далеко за академические границы и определяет характер международного политического комментария в крупных СМИ. Ее ключевой тезис замыкает мировой успех демократии на устойчивый рост благосостояния и образования, который воплощен в образованном и благополучном среднем классе: «Недавние события, включая свержение ряда диктатур, во многом отражают последствия роста среднего класса, роста благосостояния и образования» (p. 102). Специфика текста состоит в том, что формулы, известные нам по более поздним образцам нормативной риторики, предложены здесь в сопровождении фактических иллюстраций. Именно у Липсета мы находим тезис о стабилизирующей политической роли среднего класса: «Обширный средний класс играет смягчающую роль в обуздании конфликтов, поскольку он способен поощрять умеренные и демократические партии и наказывать [голосованием] экстремистские группы» (p. 83). В духе Токвиля «ценности среднего класса» отождествляются с универсальной национальной культурой, которой противостоит «замкнутая культура низшего класса» (Ibid.). А связь между благосостоянием и демократией вписывается в столь привычную нам сегодня геометрическую образность: «Увеличивающееся благосостояние… связано с демократией причинно-следственным отношением через… политическую роль среднего класса, поскольку меняет формулу социальной стратификации, которая смещается от вытянутой пирамиды, с низшим классом в виде широкого основания, к ромбу с растущим средним классом» (Ibid.)[92].
Статья, которая апеллирует к примеру десятков стран, становится одним из первых эталонов той доктрины, которая на протяжении следующих 20 лет доминирует в секторе международной экспертизы – теории модернизации[93]. Операция сравнения в ее интеллектуальном и понятийном поле задает неустранимую связь между ранее независимыми темообразующими категориями: политического прогресса (развития), торжествующей Современности и парламентской демократии. Предлагаемая во множестве версий и вариантов, эта доктрина не ограничивается университетскими журналами и монографиями: она весомо представлена в стенах международных институций, включая финансовые, которые занимаются продвижением демократии в мире. Через серию публичных событий, программ, стипендий они содействуют активному трансферу академических разработок в ведущие СМИ. Вплоть до сегодняшнего дня такие центры влияния могут придерживаться того тезиса, что внешняя политика, направленная на продвижение и поддержание среднего класса в мире, куда более действенна для долговременной безопасности и процветания США, чем масштабное военное присутствие страны на международной сцене[94].
При этом будет большим преувеличением утверждать, что категория среднего класса служит неизменным центром речи, производимой различными экспертными центрами на протяжении всей этой экспансии. Скорее, можно наблюдать обратное: данная социальная категория относительно легко смещается к периферии «модернизационной» понятийной сетки, никогда не теряя связи с «собственностью» или «рынком», но уступая место нераздельно более абстрактным и символически весомым понятиям экспертного словаря, подобным «легитимности», «устойчивому росту», «политическим элитам» и ряду подобных. Именно они доминируют в схемах демократического транзита, которые впоследствии вводятся международными институциями и местными экспертами в публичный оборот самых разных «переходных» обществ, включая Россию начала 1990-х годов. Так, понятийную структуру своего рода «транзитологической библии» Линца и Степана, которая чуть позже резюмирует успехи и неудачи перехода к демократии в мире, составляют такие категории, как «рынок», «суверенное государство», «государственный аппарат», «бюрократические нормы», «гражданское общество», «свобода мнений», «верховенство закона», «электоральное состязание», даже «территории» и этнически определяемые «нации»[95]. «Средний класс» в этом списке параметров попросту отсутствует.
Схожий принцип определяет структуру экспертных докладов, выпускаемых Центром ОЭСР по сотрудничеству со странами с переходной экономикой. Они могут значительно различаться от региона к региону по своему понятийному словарю, при этом социальные категории в них отнюдь не доминируют, и в большинстве случаев категория «среднего класса» игнорируется. «Экономический обзор» 1995 г. по России вводит такие социально релевантные темы, как экономическая политика, развитие рынков, мобильность рынка труда, уровень жизни и социальная защита[96]. Но аналитические и статистические операции производятся здесь над категориями «населения» в целом, «секторами» занятости или географическими «регионами», напоминая этим позднесоветские классификаторы социальной структуры. «Средний класс», который в образцовых высказываниях, подобных работам Липсета, Баррингтона Мура[97] и ряда более поздних авторов, может признаваться мотором модернизационного сдвига, не упоминается вовсе. Немногочисленные доклады ОЭСР, которые полностью посвящены роли «среднего класса» в экономическом развитии, – это куда более позднее исследование «глобального среднего класса» в развивающихся странах (2010) или отчет о Латинской Америке как «регионе средних классов» (2011)[98]. Следует отметить, что именно 2000-е и начало 2010-х становятся периодом активной публичной эксплуатации темы «среднего класса» как глобального феномена международными экспертными центрами: наряду с ОЭСР к их числу относятся Всемирный банк, ООН, Фонд Карнеги и ряд других[99].
Впрочем, в международной конъюнктуре 1990-х годов имеются заметные исключения. Понятие «средний класс» не занимает здесь центр проектной активности, однако входит в кодифицированную официальную речь межгосударственных соглашений, где наделяется высокой символической ценностью. Важнейшим гравитационным центром, который выполняет одновременно осязаемую экономическую и символическую функцию в российском «переходе» 1990-х, выступают административные структуры «единой Европы». Европейский союз, который сам предстает материализованным понятием-проектом, к началу этого периода далеким от завершенной формы, по мере своей институциональной реализации действует как крайне активный агент влияния. Уже в 1990 г. евроинституции открывают программу поддержки рыночных преобразований в СССР, а в 1991 г. переучреждают ее как TACIS – программу «технической помощи» России и странам бывшего Советского Союза. В рамках программы финансируются институциональные реформы по «укоренению демократии и рыночной экономики»[100]. Формы активности амбициозно разнородны: от корректив модели государственного управления и переподготовки сотрудников Сбербанка до открытия нескольких экспериментальных пекарен вдалеке от столиц. Участие инстанций Европейского союза не ограничивается редизайном государственного аппарата и поддержкой пилотных экономических проектов. Одно из главных направлений – это европейская унификация категориальных систем СНГ: законодательства, национальной статистики, систем измерения. Эффекты влияния распространяются и за национальные границы, охватывая международные классификации и рейтинги. Именно структуры Евросоюза выступают источником признания России страной «с переходной экономикой» (1993)[101], как и ряда смежных квалификаций, которые переопределяют место страны в международных иерархиях.
Показателем прямого вклада проектной «единой Европы» в проектный российский «транзит» служит бюджет TACIS. В первые три года существования, с 1991 по 1993 г., он составляет 1,36 млрд экю[102], из них почти 500 млн – российская часть[103]. До 1998 г. на всех территориях бывшего СССР эта цифра вырастает втрое, почти до 3,8 млрд евро, из них на российские проекты в 1991–1998 гг. выделено 1,2 млрд евро[104]. Чтобы оценить масштаб этих европейских вложений, следует сравнить их с показателями российского государственного бюджета. Так, в кризисном 1998 г. эти расходы, если оценивать их по нижней границе, составляют примерный эквивалент государственного финансирования всего общего образования или государственных трат на железные дороги[105].
Каков проектный словарь европейского участия в российских институциональных и категориальных сдвигах? В учредительных документах и информационных брошюрах, выпускаемых под эгидой TACIS, мы снова не обнаруживаем прямого обращения к «среднему классу». В этот период сама модель «единой Европы» операционализируется в универсалиях «граждане», «жители», а также в отдельных профессиональных и образовательных категориях («работники», «студенты», «преподаватели», «свободные профессии» и т. д.), которые вписаны в риторику экономических свобод и кооперации[106]. Точно так же программа, обращенная к обществам бывшего Советского Союза, оперирует понятиями-проектами, которые редко нарушают тематические границы экономики: «экономический рост», «рыночная экономика», «развитие торговли и инвестиций», «приватизация», «сотрудничество в области экономики», «партнерство», «[транспортная и энергетическая] инфраструктура», «благоприятный климат», «экономическая модернизация», «политическая стабильность»[107]. Однако в 1997 г. российское и европейское правительства ратифицируют Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное уже в 1994 г., за которым следует очень интересная по своей терминологии европейская резолюция о будущих отношениях с Россией (1998). В ней мы находим красноречивую артикуляцию связи между политической стабильностью, свободами и рынком: «Стабильность на европейском континенте может быть достигнута в силу успеха экономических и демократических реформ в Российской Федерации, вместе с установлением в ней верховенства права и социальной сплоченности» или «Европейский Союз может сыграть позитивную роль в России, открывая ее рынки и поддерживая свободы». Наряду с этим, среди приоритетов деятельности Европейского союза в России, в документе названа «консолидация процесса демократизации в российском обществе посредством стимулирования центральной роли гражданского общества и появления среднего класса с целью предоставления прочной основы для демократии, верховенства права и уважения прав человека»[108]. Проектная роль, на которую здесь претендует европейская администрация, по своей амбиции сравнима с перспективными планами советского правительства, куда еще накануне исчезновения СССР включается «сбалансированное развитие процессов социальной интеграции и социальной дифференциации в обществе»[109]. Европейская резолюция становится, по сути, возвратом к понятийной модели Липсета на законодательном уровне.
Подобный пример – не единственный в официальном европейском корпусе речи. Двумя годами ранее, в записке о сотрудничестве Евросоюза с ЮАР, мы обнаруживаем схожую схему в контексте «открытия рынков» и «преодоления последствий дискриминации»: «Сотрудничество с малыми и средними предприятиями… открывает, при поддержке правительства, новые, простые и быстрые возможности для создания рабочих мест. Такое сотрудничество, помимо прочего, способствует созданию чернокожего среднего класса»[110]. Озабоченность последствиями экономического удара конца 1990-х годов по «городскому среднему классу» в контексте «устойчивого развития», «стабильности страны» и «укрепления демократии» выражена в другом европейском документе, на сей раз описывающем ситуацию в Индонезии (2000)[111]. Вопрос о том, получает ли эта серия официальных высказываний, и в особенности помощь в «появлении среднего класса» в России, программное и финансовое воплощение, нуждается в отдельном исследовании. Однако уже само присутствие проектной категории в эпицентре институционального транзита указывает нам на ее высокую языковую и социальную ценность, характерную для этого периода.
На следующем хронологическом шаге, в конце 2000-х годов, мы снова обнаруживаем понятие «средний класс» в европейском официальном корпусе речи, обращенном к России. Но здесь оно утрачивает прежнюю доктринальную связь с «демократией». В документе, пересматривающем отношения Европейского союза с Россией десятью годами позже (2008), словарь экономической прибыли доминирует над всеми прочими, а понятие «демократии» не употребляется вовсе[112]. В этом контексте российский «средний класс» означает уже не залог политических преобразований, а разновидность коммерческого ресурса для европейских производителей: «Хотя энергия представляет собой наиболее значимый фактор [в российской экономике], но впечатляющие темпы роста наблюдаются также в секторе услуг. При своем сильном и непрерывном росте и своем новом среднем классе Россия представляет собой важный развивающийся рынок прямо по соседству с нами, который открывает возможности для предприятий Европейского союза» (Ibid.). Превращение «среднего класса» в сугубо экономическую категорию потребителей прослеживается также по документам, относящимся к Индии (2006), Китаю (2006) и даже международной миграции (2007)[113]. В этом контексте российский «средний класс» означает уже не залог политических преобразований, а разновидность коммерческого ресурса для европейских производителей: «Хотя энергия представляет собой наиболее значимый фактор [в российской экономике], но впечатляющие темпы роста наблюдаются также в секторе услуг. При своем сильном и непрерывном росте и своем новом среднем классе Россия представляет собой важный развивающийся рынок прямо по соседству с нами, который открывает возможности для предприятий Европейского союза» (Ibid.). Превращение «среднего класса» в сугубо экономическую категорию потребителей прослеживается также по документам, относящимся к Индии (2006), Китаю (2006) и даже международной миграции (2007)[114]. Подобный разрыв в понятийной сетке хорошо иллюстрирует изменения, происходящие в структуре самого органа, Европейской комиссии, которая полутора десятилетиями ранее выступала одним из источников радикального сдвига в системе российских политических категорий. Новые отношения между понятиями в официальной речи второй половины 2000-х годов объективируют новую силовую асимметрию, возникающую как между центрами политической и экономической власти в Европейском союзе, так и между европейским и российским государственными аппаратами, все чаще захваченными неолиберальным словарем коммерции, который приносят с собой профессионалы международной экспертизы.
Таким образом, французских политических мыслителей и американские экспертные центры в последние десятилетия дополняет еще один кардинальный источник речи о среднем классе – институты евробюрократии и, более широко, надгосударственные проектные центры. Именно в их стенах понятие «средний класс» парадоксальным образом поначалу усиливает, а затем теряет проектную связь с «демократией». Они редко производят смысловой разрыв сами, чаще заимствуя готовые наработки у коммерчески ориентированных экспертных центров и групп. При этом именно они выступают кардинально значимым местом институциализации нового смысла. Этот момент становится очередным сдвигом в сетке политических категорий по отношению к той конструкции XIX в., которая делала умеренность добродетелью общественного прогресса. Смещение не окончательно, поскольку даже простой рост покупательной способности по-прежнему фигурирует в одних и тех же текстах с экономическим процветанием обществ, европейской культурой и правами человека[115]. При этом контекстуальное сведение с середины 2000-х годов политической свободы к емкости рынков и платежеспособному спросу фиксирует новый смысловой полюс в исторически растянутом и неоднородном континууме понятия. Сегодня любому способу думать и говорить о среднем классе оказывается предпослан ряд альтернатив – предпонятий, которые используются и комбинируются высказывающимися в зависимости от их культурных ресурсов и политической чувствительности. Я не останавливался специально на негативных смыслах «среднего класса», которые также присутствуют в публичной дискуссии по меньшей мере с 1970-х годов, в частности, в анализе успеха гитлеровского проекта[116]. Но, если нас интересует позитивный проектный смысл, эти альтернативы простираются от полюса в понимании среднего класса как ареволюционной, но прогрессивной силы, сдерживающей опасные крайности и властные асимметрии – т. е. как фактора цивилизации; до полюса, на котором средний класс определяется как политически индифферентный сегмент потребительских рынков, где показателем общественной силы служит не более чем покупательная способность.