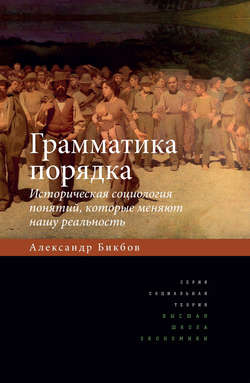Читать книгу Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность - Александр Бикбов - Страница 7
Раздел первый. Генеалогия нового порядка
I. Структура проекта: «средний класс» для «демократии»
Русский XIX век: географическая граница как смысловая
ОглавлениеДо любого детального анализа высказываний 1990-х годов о среднем классе следует уточнить происхождение того понятийного конструктора, который в них задействован. Прежде всего имеют ли они связь с дореволюционной российской историей понятия? Историк Михаил Велижев возводит ее к сочинению Сергея Уварова[39], написанному по-французски, где «средний класс» отождествляется с «третьим сословием» как моральной и политической силой. Такой смысл во многом обязан выборочному заимствованию французских интеллектуальных образцов, которые не закрепляются в русских понятийных соответствиях. Спорадический перенос, который продолжается в более поздних публикациях, написанных уже по-русски, в середине XIX в. инкапсулирует понятие во французском контексте. С некоторыми оговорками это справедливо для всей доминирующей линии российской политической и социальной мысли, на преемственность с которой порой претендует академическое и журналистское высказывание 1990-х. Например, в «Очерках вопросов практической философии» Петра Лаврова (1859) понятие «средний класс» употребляется всего один раз – в переводе цитаты французского автора. В «Письмах из Франции и Италии» Александра Герцена (1847–1852) «среднего класса» нет, но симптоматично используется понятие «классы»: в контексте европейских событий. В его же сборнике «Былое и думы» (1868), где речь идет о российских реалиях, «классы» либо отсутствуют, либо прямо отождествляются с «сословиями»[40].
Для рубежного периода начала XX в. также не характерен особый интерес к «среднему классу». В «Общем ходе всемирной истории» Николая Кареева (1903), где предложен эскиз социальной иерархии, встречаются «имущие классы» и даже «культурный класс»; но этим трансисторическая модель социальной структуры ограничивается, явственно тяготея к образцам европейского Старого порядка. «Средний класс» не встречается ни в одном из текстов сборника «Вехи» (1909) – в отличие от основополагающего «образованного класса» интеллигенции, которому присвоена высокая проектная ценность. Интерес к «демократическому движению» и «торжеству эгалитаризма» у Питирима Сорокина в «Преступлении и каре» (1914)[41] не притягивает в тот же текст «средний класс»: понятие появляется в трудах социолога уже в американский период. То есть даже в работе молодого ученого-прогрессиста, хронологически близкой к революции 1917 г., «средний класс» не становится понятием-посредником «демократии» и «эгалитаризма».
Важное исключение из этой системы умолчаний составляет, на первый взгляд, радикальная критическая ветвь, представленная Николаем Чернышевским и русскими марксистами. В «Капитале и труде» Чернышевского (1859) мы находим «средний класс» в значении, близком к французской «буржуазии»: это «банкиры, купцы и мануфактуристы», а также «антрепренеры… заводчики и фермеры». Более того, здесь категория получает некоторую проектную ценность. Расположенный между «высшим классом» и «простым народом», «средний класс еще не совершенно уничтожил всякую самобытность в высшем сословии и не совершенно поглотил его в себе… с каждым годом во всех странах средний класс торжествует экономические победы и часто наносит политические поражения своему сопернику»[42]. Европейское сходство оказывается неслучайным: как и во многих других случаях, речь идет не о России; контекст употребления понятия ограничен авторским разбором английской политэкономической теории. Тот же принцип управляет появлением «среднего класса» в небольших текстах Георгия Плеханова «Столетие великой революции» (1889) или «Огюстен Тьерри и материалистическое понимание истории» (1895).
Не менее показательны в этом отношении тексты Владимира Ленина. В работе «Развитие капитализма в России» (1899) среди социальных категорий, вовлеченных в становление нового экономического порядка при распаде традиционного крестьянского уклада, он упоминает «новые общественные классы, по необходимости стремящиеся к связи, к объединению, к активному участию во всей экономической (и не одной экономической) жизни государства и всего мира». Такой социальный тип ассоциируется с промежуточной категорией фабричного крестьянина, который представляет собой «особый класс населения, совершенно чуждый старому крестьянству, отличающийся от него другим строем жизни, другим строем семейных отношений, высшим уровнем потребностей, как материальных, так и духовных». Однако «особый класс» постоянно ускользает от окончательного превращения в понятие, несмотря на то что, наряду с «классом рабочих» и «буржуазией», в итоговую социальную типологию автор вводит такие менее очевидные классовые категории, как «зажиточные мелкие хозяева» и «бедные мелкие хозяева»[43].
Отдельную категорию текстов составляют труды исследователей, активно оперирующих материалом большой истории. К их числу относится обширный историко-правовой труд Бориса Чичерина «Курс государственной науки» (1894), где вводится понятие «средние классы». Более того, оно представлено в целом ряде ключевых проектных контекстов: «посредствующим звеном между богатыми и бедными может быть только средний класс», «за редкими исключениями, научное и литературное движение исходит от средних классов», «средние классы… не имеют ни времени, ни охоты посвящать себя общественной деятельности», при этом «преимущественно перед всеми другими, являются представителями общего права»[44]. Особенность текста состоит в том, что в общей историософской схеме, предложенной на его страницах, не проводится различий между обществами и географическими регионами, т. е. дана история человечества. При этом в культурных и политических отсылках неизменно доминируют имена европейских деятелей, что по умолчанию сообщает истории мира очевидный европоцентризм. Сходная логика характерна уже для более ранних исторических работ. В трудах Николая Устрялова (1837–1841), Тимофея Грановского (1849–1850), где вводятся «средние классы», история России помещена в контекст европейской истории. И именно в этой сравнительной перспективе новое понятие получает смысл, прямо отсылая к эталонной структуре европейских обществ[45].
В плотно насыщенном социальными категориями исследовании «Экономический строй России» исторического социолога Максима Ковалевского (1900)[46] мы обнаруживаем целую серию социальных понятий, отношения и соответствия между которыми, впрочем, не прояснены: «низшие классы», «ремесленники», «буржуазия», «крестьяне», «сельская буржуазия», «крупная городская буржуазия», «капиталисты», «дворяне», «духовенство», «промышленный и торговый класс», «торговое сословие», «коммерсанты», «предприниматели», «рабочие», «мещане», «мелкое сословие» и даже «сельское и городское среднее сословие» или просто «среднее сословие». Последнее контекстуально наиболее близко к «среднему классу»: слой собственников, не принадлежащий ни к дворянству или духовенству, ни к «низшим классам». Однако именно в этом тексте понятие не получает никакого проектного смысла, т. е. не связывается с прогрессом, демократией и т. д., и растворяется в череде синонимов и замен. В другом труде Ковалевский использует «классы» и «сословия» как полные синонимы, в том числе когда говорит о «среднем» или «третьем»: «Что касается третьего сословия, состоявшего из городских и сельских обывателей, то оно пользовалось единственной привилегией – платить налоги, от которых высшие классы были освобождены»[47]. В целом сравнительные или историософские работы историков, вероятно, играют кардинальную роль в переносе классовых моделей в российский публичный оборот. Однако даже если в таком переносе задействованы «средние классы», понятие сохраняет плотную связь с европейским миром и исчезает при устранении этой точки отсчета.
Таким образом, во всем корпусе текстов, не исключая марксистские, понятие «среднего класса» остается отчетливо экстерриториальным. Оно фиксирует опыт европейского мира и четко маркирует границу между ним и Россией[48]. Учитывая показательное отсутствие у понятия какой-либо символической ценности, неразрывно связанное с его крайне спорадическим употреблением, мы можем сделать важный вывод. Даже в тех случаях, когда авторы пользуются, казалось бы, одним и тем же понятием «класс» применительно к обоим мирам, на каждый из них они проецируют принципиально разные социальные типологии. Очередной яркой иллюстрацией этому становится подробное исследование Василия Ключевского «История сословий в России» (1886), где «средний класс» отсутствует, а понятия «класс» и «сословие» используются как частично взаимозаменяемые: «Сословиями мы называем классы, на которые делится общество по правам и обязанностям»[49]. Говоря о классах как о разрядах внутри сословий, Ключевский пользуется понятием как инструментом административной и научной, а не социальной в современном ему смысле типологии. По фискальному и политическому положению он выделяет «вооруженный класс», «служилый класс», «класс бояр», «класс приказчиков», «класс богадельных людей», «свободные классы» и т. д.
Ограничиваясь в своем анализе периодом до первой половины XVIII в., Ключевский оставляет шанс для более современных альтернатив. Возможно, в интеллектуальной и политической понятийной сетке конца XIX в. формируется непрямой словарный эквивалент «среднего класса»? Не выполняют ли эту функцию «разночинцы», «третье сословие», «средний слой» или даже «третий элемент», появляющийся в публичном обороте на рубеже веков?
Некоторые из этих альтернатив обладают отчетливым проектным потенциалом, но попадают в первую очередь не в сетку социальных и экономических делений, а в рамки явственно политических оппозиций. Это относится к «третьему элементу», который становится обозначением для наемных земских служащих, участвующих в местных учреждениях наряду с правительством и земством. Такая узкая и, казалось бы, техническая категория признается изобретателем понятия «большой политической опасностью для существующего государственного строя»[50]. Десятилетием позже отдельные авторы связывают с ним надежды на смену политического строя в пользу конституционного (Там же). «Среднее сословие», на первый взгляд, лучше всего подходит на роль понятия-проекта, эквивалентного «среднему классу». Однако его смысл далек от привычного нам, который формируется в результате нескольких переопределений. Историческая ирония заключается уже в том, что иллюзорна сама традиционность сословного строя в России. Понятие «сословия», термина церковного происхождения, спроецированного на все общество, становится таким же новшеством для второй половины русского XVIII века, как «классы» – для второй половины XIX. В своем исследовании Ингрид Ширле показывает, что до 1760-х годов в России «сословий» попросту не существует, а социальные категории за пределами полюсов двухчастной модели недооформленны и очень подвижны. Изобретение «сословий», или «родов», в терминологии государственного акта, которым они учреждаются, – это проектный ответ на «нехватку третьего сословия», которая дисквалифицирует Россию перед лицом европейских обществ в век Просвещения[51]. В подобных обстоятельствах «третье сословие», безусловно, предстает ключевым понятием-проектом, хронологически углубляя ту перспективу, где даже в административной практике отсутствует устойчивая сетка социальных делений. Однако в проектном характере этого понятия предшествующего периода заключена и его проблематичность для последующего. В первую очередь оно отражает иерархию прав и привилегий при Старом порядке, нередко наследуемых. Тогда как понятие «класса» во второй половине XIX – начале XX в. отчетливо вписывается в один контекст с собственностью, личностью и политическим влиянием.
Менее официальный «средний слой» появляется в целом ряде контекстов этого периода, в том числе в примечаниях работы Ленина о развитии капитализма, где он поясняет его как «разночинцев, интеллигенцию» и квалифицирует следующим образом: «так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России»[52]. Казалось бы, единый контекст капитализма располагает высказывание к поиску соответствий между «средним слоем» разночинцев и европейским «средним классом» через экономическую и цивилизационную активность обоих. Однако, как и в «Вехах», оппозиция, полюс которой маркирует эта категория, в первую очередь – культурная и отчасти политическая. У Ленина она противопоставляется быту, «близкому к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с “добросовестным ребяческим развратом” “господ”»[53]. У Чернышевского «средний класс», «средний слой» и «среднее сословие» – простые синонимы в указанном контексте разбора английской политэкономии. Во введении к «Экономическому строю России», адресованному французской публике, Ковалевский говорит о «деревенском третьем сословии, стоящем за частную собственность», чьему возникновению хотели бы воспрепятствовать «горячие защитники русского “мира” и периодических переделов»[54]. Кажется, наконец, найдено искомое понятие-проект, которое контекстуально привязано к универсалии собственности, при этом будучи частью, во-первых, цивилизационной контроверзы, во-вторых, контекста глобального капитализма. Однако и это «сословие», которому лучше подходит квалификация класса, встроено автором в демонстрацию аналогии между современными ему российскими дебатами и европейской экономической мыслью XVI–XVII вв.
Остается ли «средний класс» призраком в пространстве русской публичной речи? Очевидно, что более точный поиск соответствий или разрывов с европейским словарем требует более детального исследования, начало которому уже положено. Но сейчас можно выдвинуть гипотезу, которая вряд ли будет всерьез поколеблена более тщательной проработкой текстов и контекстов русской социальной мысли XIX – начала XX в. Даже если в этом корпусе публичной речи в некоторый момент появляется «третий элемент», наделенный всеми признаками социальной категории-проекта, такой, например, как «интеллигенция», вся понятийная сетка и система оппозиций, в которую она встроена, блокирует ее отождествление со смысловым ядром «среднего класса» европейских обществ. И господствующие реформистские, и более радикальные революционные ожидания оставляют «средний класс» по ту сторону европейской границы и описывают российское общество и проецируемые на него изменения по преимуществу либо в сословных терминах, либо, в случае осознанного разрыва с ними – в бинарных противопоставлениях «имущих» и «неимущих», «образованных» и «темных». Как понятие-проект, а зачастую и как простое словарное вхождение, «средний класс» почти не представлен в интеллектуальной и политической речи второй половины русского XIX века.
Это означает, что данный период не может быть горизонтом заимствования для российской политической риторики 1990-х годов, социологической литературы и школьных учебников, где прочно обосновывается «средний класс». Новый тип речи об обществе, который заполняет публичную сцену в момент отказа от советского проекта, отсылает к совсем иным понятийным образцам, нежели сословные схемы Старой Европы или культурно-этический конструкт «интеллигенции». Их во многом формируют перевод и популяризация англоязычных текстов 1950–1960-х годов, где «средний класс» определяется через объективную структуру занятости, образования и доходов. Но как тогда в эти по видимости нейтральные описательные модели проникают нормативные и проектные смыслы, подобные «функции стабилизатора»? Прояснить эту двойную конструкцию 1990-х позволяет обращение к длительной международной истории понятия, из которой в различных комбинациях заимствуются элементы, не всегда связанные между собой изначально[55]. Особая роль принадлежит здесь французскому горизонту заимствований. Но в семантическом, как и в социальном измерении это совсем другая история.