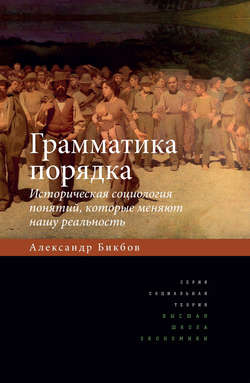Читать книгу Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность - Александр Бикбов - Страница 3
Понятие и его смысл
ОглавлениеПонятийные структуры, подвергнутые историко-социальному анализу, в отличие от экономических показателей и даже политической догматики, способны дать более точное понимание специфики политического и социального режима послесоветской России и СССР, как и познавательных возможностей и профессиональной организации социальных наук в СССР и после. Чтобы приблизиться к такому пониманию, необходим метод, для начала позволяющий выделить понятия, в которых порядок обнаруживает себя в наиболее ясной и действенной форме, – т. е. ключевые социальные и политические категории. Вслед за этим такой метод должен обеспечить устойчивые результаты при фиксации смысла понятий, не испытывающего критической зависимости от произвола исследователя и при том не сводящегося к разновидности энциклопедической статьи. Наконец, метод должен раскрывать непроизвольное отношение между двумя типами социальных структур: понятийными и теми, что не могут воспроизводиться вне языка, но к языку не сводятся, – т. е. между смысловым и силовым измерениями социальной практики.
Таким образом, социальному исследованию понятий предпосланы три кардинальных методологических вопроса: 1) Что такое понятие и какие понятия следует избрать предметом исследования? 2) Как определять смыслы понятия и фиксировать их в систематической форме? 3) Как возвращать понятие в реальность, т. е. прослеживать его действие на непонятийные социальные структуры?
Два первых вопроса давно и активно обсуждаются разработчиками конкурирующих версий истории понятий и истории идей[2]. Ответы на них представлены у исследователей, обращавшихся к социальному действию языка и производящему характеру понятий: от Райнхарта Козеллека и Квентина Скиннера, вместе с коллегами и последователями работающих с периодами большой длительности, через Ролана Барта и Джорджа Лакоффа, сосредоточившихся на актуальности социального порядка, к исследователям, которые, как и российские авторы нескольких сборников, с начала 2000-х годов дополнили историю понятий изучением периодов средней длительности[3]. Однако не все эти ответы достаточно эксплицитны и не все они удовлетворяют задачам исторической социологии. Кроме того, третий вопрос, хотя декларативно озвучивается в рамках той же истории понятий, не может быть в действительности решен без обращения к исследовательскому арсеналу социологии. Поэтому здесь я обозначу собственные методологические предпосылки исследования, которое представлено в данной книге. Это не будет исчерпывающим изложением метода. Не желая разбивать текст книги на теоретические и исторические главы, я буду возвращаться к отдельным предпосылкам и допущениям по мере работы с материалом, тем самым наряду с кратким наброском во введении предлагая «заземленную» теорию.
Прежде чем развернуть ряд посылок и исследовательских операций, следует сделать важное замечание. Если с самого начала очертить поле исследования, сосредоточившись на определении понятия как элементарного семантического или социального факта, это не даст никакого понимания действий, которые исследователю необходимо совершить, чтобы выделить ключевые понятия из потока публичной речи, выявить социальные коллизии при наделении их смыслом и ценностью, установить роль понятия в регламентации практик. Поэтому я сразу предложу операциональное определение понятия: не что есть понятие, а как можно изучать понятия социологически.
1. Социальную «работу» понятий следует искать в измерении, отличном от истории слов. В рамках историко-социологического исследования меня в первую очередь интересует место понятия в социальном порядке, а не историческая траектория лексем от общества к обществу, из одной языковой среды в другую или от одних авторов к другим. Само по себе описание историко-географической траектории – важная исследовательская задача, которую на российском материале решает ряд авторов сборников «Персональность…» и «Понятия о России…»[4]. Однако для целей исторической социологии важнее описать и объяснить, как данное понятие – вне зависимости от траектории его географического движения – «работает» в актуальных социальных практиках и межпозиционной борьбе. Знание географической траектории понятия может быть полезным в случае, если оно позволяет точнее объяснить особенности использования, т. е. придания понятию смысла здесь и теперь. Так, уделяя внимание осаждению смыслов в историческом поле понятия «средний класс», я обращаюсь к англо– и франкоязычным источникам (см. гл. I наст. изд.). Это делается для того, чтобы прояснить активные и тупиковые генетические линии понятия и уточнить способы его определения в России сегодня. Однако я не вполне достигаю дальней цели, объяснения социальной «работы» понятия, оставаясь преимущественно в границах политического и интеллектуального круга производителей его смыслов и лишь на материале самых недавних событий (2011–2012 гг.) проверяя, включается ли оно в практики непрофессионалов. Если большая социологическая задача исследования – объяснить, как понятие направляет самый широкий спектр практик, как его смыслы рассеиваются и оседают в эмпирическом разнообразии взаимодействий, предлагаемое в настоящей книге исследование имеет лишь подготовительный характер.
В главах, посвященных исторической организации социологии и социальных наук, я возвращаюсь к связям понятия с географией. Здесь речь идет уже не о понятиях, которые, подобно «среднему классу», производятся социальными учеными о мире, а о самом понятии «социология». Хотя географические пути понятия объективируют в первую очередь политические отношения между обществом-донором и обществом-реципиентом, за первым шагом анализа, отсылающим к языковой географической карте понятий, следует второй, который направлен уже не на географическую историю, а на территориальную логику заимствованных категорий. Как и понятие «средний класс», которое остается исключительно экстерриториальным в русской научной речи XIX и начала XX в. (т. е. за редкими исключениями не используется авторами для описания «своего» социального порядка), аналогичным статусом обладает понятие «социология». В начале XX в. ни институционально, ни лингвистически русская социология не может быть материализована в ином пространстве, нежели Париж. Но есть и противоположные примеры. В главе V я анализирую превращение науки и научности в доктринальное основание советского режима и прихожу к прямо противоположной констатации. Хотя понятие «прогресс» попадает в русский язык из европейских, преимущественно французских источников, а «научно-технический прогресс» вводится в словарь международных центров экспертизы, вероятно, раньше, чем в официальный советский словарь, символическая ценность этой категории в демонстрации различий между социализмом и капитализмом настолько велика, что Советский Союз послевоенного периода превращается в образцовую иллюстрацию «научно-технического прогресса», признанную и на международной сцене. В данном случае географическая история понятия полностью переопределяется его территориальной логикой.
2. Перед реконструкцией «работы» понятий следует определиться со списком тех из них, «работа» которых вносит наибольший вклад в субъективные схемы практик: их воспроизводство гарантирует порядок, в пределе они и являются самим социальным порядком[5]. Различные версии истории понятий и исторической семантики, естественно, не предлагают одного испытанного приема в формировании первичного списка. Козеллек в некотором смысле дает понять: вы сами увидите, когда перед вами – базовое понятие. Это приемлемо для исторического труда, ориентированного на составление обширного лексикона, но недостаточно для историко-социологического исследования, сфокусированного на изучении практик. Среди основных причин здесь можно назвать не только трудности такого подхода, плохо согласующиеся с требованием минимального обоснования в социологии, но и сбои лингвистического порядка. Создатели лексиконов, которые описывают социальный порядок на периодах большой длительности, тяготеют к выбору в качестве ключевых понятий изолированных лексических единиц: «труд», «власть», «государство», «общество», «класс» и т. д.[6] Это позволяет поддерживать консистентность лексикона, несмотря на сдвиги в социальных условиях воспроизводства системы языка. Однако периоды средней и малой длительности демонстрируют нам решающее отличие от этой картины. Среди наиболее действенно работающих понятий – по крайней мере, в российском случае – мы обнаруживаем составные лексические конструкции. Если это «класс», то «рабочий» или «средний», если «прогресс», то «научно-технический», если «гуманизм», то «социалистический» и т. д. В таких обстоятельствах попытки некоторых российских авторов механически копировать европейские исторические лексиконы, не соблюдая удвоенной бдительности в отношении социальных условий оборота понятий и исторической дистанции при реконструкции их смысла, дают весьма проблематичные результаты[7]. В действительности выявить, какие понятия лучше «работают», и означает дать ответ на вопрос, что есть ключевое историческое понятие в данный период. На интервалах, ограниченных десятилетиями или, самое долгое, столетием-полутора, социальные понятия, в которых объективируются осцилляции и сдвиги социального порядка, имеют форму лексических сочетаний.
В общем виде ключевые понятия – это такие конструкции, которые в ходе масштабных сдвигов социальных и политических структур выполняют функции операторов сдвига. Например, «классовая война» операционализирует смысл «пролетарского государства» в первые два десятилетия после революции 1917 г., «научно-технический прогресс» и «всесторонне развитая личность» – характер режима «развитого социализма» в 1960– 1980-е годы, «средний класс» – смысл послесоветского перехода к «демократии». Как отслеживать систематические возмущения, которые такие понятия вносят в ближайший контекст высших определений социального порядка и политических режимов (таких как «социализм», «капитализм», «демократия»)? Существует несколько показателей, позволяющих отбирать понятия на более твердых основаниях, нежели интуиция участников событий или держателей исторического архива.
Это изменения в словаре официальной государственной речи, в частности, публичных обращений высших государственных руководителей к населению и к политическому аппарату; материалы политических дебатов и экспертных дискуссий ввиду принятия новых законов, выработки перспективных планов и политических проектов; рабочая («серая») литература, издаваемая ограниченным тиражом для внутреннего использования правительственными комиссиями, техническими и финансовыми подразделениями органов власти, разнообразными вспомогательными структурами. За пределами корпуса официальной политической или официально лицензированной экспертной речи это статистика распространения отдельных понятий в заглавиях публикаций или их примерная оценка, которая может основываться на появлении или исчезновении отдельных библиографических категорий в высокоэтатизированных библиотечных классификаторах, отражающих символическую ценность этих понятий. Еще одним показателем служит активизация интеллектуальных дебатов вокруг того или иного понятия или темы, которая через идейную контроверзу вносит вклад в историческое поле понятия и дополняет его новыми элементами, доступными для повторной активации десятилетия спустя, в том числе в иных национальных и политических контекстах[8]. Наконец, это факты перевода доктринальных понятий в технические, такие как перенос понятий «прогресс» или «фундаментальная наука» 1960-х годов с высоких политических трибун в номенклатуру государственного бюджета. То есть закрепление отдельных понятий в той институциональной форме, которая уже относительно нейтральна к последующим политическим катаклизмам. В начале 1990-х годов «научно-технический прогресс» перестает выполнять функцию ключевого оператора, или понятия-посредника, в определении государственного режима социализма и плановой экономики. Однако понятия «прогресс» и «фундаментальная наука» по сей день сохраняются в структуре российского государственного бюджета.
3. Оставляя в стороне реконструкцию историко-географической траектории понятий, социологическое исследование признает актуальность другого вопроса, оживляющего дебаты между английской и немецкой школами истории понятий. Это вопрос: кто и что производит понятия? Очевидно, что ответ на него не может быть слишком простым. Но что можно сделать сразу – это отказаться от традиционно филологической и в значительной мере архаичной установки, которая предполагает исследование «авторского и интенционального механизма в конструировании социальной реальности, осмысленной в языке»[9]. Участники проекта «Понятия о России», к счастью, не следуют презумпции индивидуального авторства понятий и, отвечая на вопрос «кто?», указывают в первую очередь на имперское правительство. Введение этой инстанции в описание периода (XVIII–XIX вв.), когда участию государства в производстве социального порядка несвойственны более современные нам монопольные формы, требует дополнительных пояснений и уточнений. Альтернативу этому составляет ряд материалов проекта «Персональность». Они демонстрируют ключевую роль в становлении семантического поля понятия «личность» интеллектуальных групп и центров того же периода, которые не имеют прямой связи с государственным аппаратом. Именно в работах и дебатах участников этих групп и центров приобретают эталонную форму некоторые смыслы, которые повторно активируются при масштабных политических сдвигах в послевоенном СССР и в ходе демонтажа советского режима. Так или иначе, фактическое обращение к коллективным инстанциям наряду с текстами индивидуальных авторов важно, поскольку сближает методологии истории и социологии понятий. Оба проекта предлагают важные элементы для дальнейшего изучения не географической, а социальной траектории понятий. На основе данных, которые вводятся в настоящей книге, к государственным органам и интеллектуальным группам в XX в. следует также прибавить экспертные инстанции, в первую очередь научные и образовательные институты, а также СМИ, которые становятся основными «изготовителями» конкурирующих смыслов: часть последних государственный аппарат институциализирует в качестве политических универсалий.
Даже если в отдельных случаях можно проследить вклад тех или иных инстанций и участников в итоговую конструкцию понятия, следует исходить из того, что продукт подобных конструкторских усилий соотносим не с индивидуальной авторской интенцией или результирующим вектором нескольких интенций, а с практиками, локализованными в различных, в первую очередь профессиональных, институциях по производству смыслов. В этой перспективе понятие выступает анонимным и коллективным продуктом уже на отрезке его лексического генезиса. Такой его характер лишь закрепляется в ходе последующей циркуляции по каналам уполномоченной речи. Рутинные академические публикации, ведомственная «серая» литература, оформление технических классификаторов позволяют наблюдать неприглядную в своей серийности социальную жизнь понятий, которая избавлена от благородных оттенков истории идей, часто обязанной своим звучанием крайне узкой селекции авторитетных источников из мира философии, художественной литературы, образцовой политической риторики. Понятие приобретает характер ключевого через множество повторов и копирований, зачастую нерефлексивных, порой механических. Такое положение дел прекрасно иллюстрирует сегодня социальная траектория основных политических категорий. Перекочевывая из авангардных художественных и маргинальных академических публикаций в черновики безымянных спичрайтеров, которые дополняют их результатами диффузных заимствований и несистематизированного чтения, отдельные понятия становятся предметом публичного высказывания политических руководителей после того, как текст выступлений проходит их личную правку или редакцию их секретарей; будучи переозвучены и заново контекстуализированы журналистами, исходные лексические конструкции снова попадают в заглавия академических и экспертных, уже серийных публикаций. Именно в таком анонимизирующем публичном обороте единицы исторического публичного словаря окончательно избавляются от следов исходного авторства и становятся общими понятиями в собственном смысле, подобно популярному музыкальному мотиву или удачному анекдоту. Сам процесс продвижения лексической конструкции от одной инстанции к другой, в ходе которого происходит насыщение и переопределение ее смыслового поля, перепроизводит ее как понятие, которое находит свое место в символической архитектуре порядка.
4. Сознательное включение в исследование широкого круга социальных инстанций по производству понятий, который в пределе смыкается с набором профессиональных, биографических, политических условий производства и циркуляции смыслов, представляет собой серьезный разрыв с господствующими версиями истории понятий и истории идей. В частности, Квентин Скиннер отрицает важность изучения «социального контекста» авторского высказывания, усматривая в нем источник огрублений и ошибок при интерпретации авторского замысла[10]. Райнхарт Козеллек отчасти склонен рассматривать реальность социальных институтов как производную от смысла понятий, когда приглашает видеть в отдельных базовых понятиях такую производящую потенцию, которая определяет ход социальной истории[11]. Отличительная характеристика исторической социологии понятий, опыт которой я предлагаю в настоящей книге, заключается в том, чтобы вовсе отказаться от мыслительной фигуры «социальный контекст», будто бы комплементарной смыслу или даже замыслу, заключенному в понятии.
Социология, отправным горизонтом которой служит социальная, т. е. коллективная и объективная реальность, позволяет исследовательски и операционально определять смысл понятия следующим образом: смысл – это то, как данное понятие используется в коллективных контроверзах и в процессах институциализации. Не больше и не меньше. Вне социальных взаимодействий, которые направляются теми или иными понятиями, невозможно установить какой-либо смысл. И если какой-то исторический смысл нам непосредственно доступен или очевиден, это оказывается возможным лишь потому, что условия нашего существования сохраняют сходство или подобие с ранее действовавшими. Часто у нас нет возможности с достаточной полнотой восстановить эмпирическое содержание взаимодействий. Однако следует максимально близко придерживаться этой посылки. Понимание – лишь следствие взаимодействий, которые производят субъективность. Такое операциональное определение понятия ближе всего к предложенному Пьером Бурдье «практическому смыслу», который одновременно является практическим чувством, т. е. тем смыслом, которым вещи и понятия «естественно» наделены для участников взаимодействий, в условиях возможности, определяемых объективными социальными структурами[12].
По этой причине «индивидуальный автор» Скиннера, интенционально генерирующий смыслы, равно как «базовое понятие» Козеллека, генерирующее рамочные условия реальности, в качестве центральной методологической фигуры должны уступить место иной формуле: гомологии, или соответствию, между семантическим и социальным пространствами данного общества в данный период, которые взяты сами по себе, безотносительно к авторству и идейным рамкам. Такая смена методологического фокуса имеет по меньшей мере два кардинальных следствия, отделяющих историческую социологию понятий от исторической семантики и истории идей.
Во-первых, смыслообразование отныне рассматривается как практика среди прочих, т. е. как социальная практика. В этом случае для ее объяснения в целом иррелевантно представление об исходном замысле или авторской интенции так же, как оно бесполезно при объяснении других элементов социальной реальности suigeneris. Следуя логике социологического подозрения, мы всегда можем достаточно точно локализовать подобный замысел, обращенный на значимое историческое понятие, в наборе объективных возможностей, биографических склонностей, характере борьбы, которую автор высказывания ведет в своей профессиональной среде или на политической сцене и т. д. Исходная авторская интенция, или смысл, который автор приписывает понятийной конструкции, будут здесь так или иначе детерминированы социальными, т. е. коллективными и объективными условиями самой возможности того или иного понятия. Бесконечная спираль «авторский замысел или объективные условия» вменяет исследованию ложный вопрос. Поэтому смысл понятия в историко-социологической работе следует исходно рассматривать как продукт и продуктивное основание социальной реальности. И смысл понятий, и смысл действий уже наличествует в эмпирической истории, зарегистрированный в текстах и иных результатах социальной практики. Нам следует изучать и описывать их как данные.
Во-вторых, анализ понятий, их семантического контекста, генерируемого отношениями с другими понятиями, исторического поля отдельных категорий, продуктивных и тупиковых (для каждого отдельного периода в разных языковых общностях) генеалогических линий исторической семантики имеет значение не сам по себе, не как акт реконструкции понятийного архива. Все исследование так или иначе имеет своим дальним горизонтом прояснение того, как понятия направляют практики. Достаточным для такой работы можно признать весьма ограниченный набор понятий, которые предоставляют доступ к ранее ненаблюдаемым и неочевидным свойствам порядка. Составление исчерпывающего словарного списка, эта во многом предельная амбиция истории понятий или истории идей, вступает в конфликт с задачами исторической социологии, поскольку почти неизбежно, а порой и декларативно разрывает главную искомую связь – между семантическим и силовым измерениями порядка. Конечная цель исторической социологии понятий – не произвести исчерпывающий лексикон ключевых социальных и политических универсалий каждого периода, а глубже проникнуть в работу социальных механизмов, описав, как понятия выполняют «работу» узловых элементов социального порядка. Здесь основным ответом на вопрос «кто или что производит понятия?» служит анализ связи между институциональными (и институционализирующими) практиками и семантическими контекстами, которые формируются вокруг отдельных понятий, выполняющих роль социальных и политических универсалий в ходе работы инстанций освящения и распространения, таких как научные центры, государственный аппарат или СМИ.
5. В связи со сказанным историко-социологическое исследование вносит еще одну существенную поправку в методологию работы, предложенную Райнхартом Козеллеком. Козеллек предлагает различать в семантическом поле понятий Нового времени область опыта и горизонт ожиданий. Не отрицая эвристичности этого различия, историческая социология оперирует не только и не столько областью исторического опыта, осажденного в семантике понятия, сколько эмпирическим референтом понятия, который наделяется достаточно узким и специальным значением. На периодах малой и средней длительности эмпирическим референтом таких понятий, как «государство», «наука», «свобода слова» и др., выступает не опыт гражданства, исследований или публичного высказывания, а институты государства (например, министерство экономики или полиция), науки (академии наук и университеты), журналистики (редакции СМИ). Иными словами, эмпирический референт в данном случае, во всем спектре значений лексического термина – это прежде всего коллективные инстанции, которые гарантируют само социальное существование и воспроизводство понятия. Такие инстанции, как машины по производству смыслов, также служат источником проектных компонент понятия, которые нормативно отсылают к желаемому или возможному будущему.
Признание исторической социологией множественности инстанций, т. е. коллективного и анонимного «авторства» понятий, не гарантирует нас от искажений перспективы, которые определяются локальной спецификой гуманитарных и социальных исследований. В частности, за пределами истории на уки и науковедения российские исследователи редко обращаются к интеллектуальным центрам как источникам производства языковой и социальной реальности. Если в случае естественнонаучных дисциплин это еще может согласоваться со здравым смыслом, куда труднее оказывается признать, что глубокое воздействие на реальность способны оказывать социальные и гуманитарные дисциплины. В современном российском обществе, как и в позднесоветском, эта немыслимость прямо соотносится с убеждением «нас никто не слушает», которое в академических стенах подкрепляется слабостью структур коллегиального самоуправления[13]. Но, хотя академические социологи и их коллеги из смежных дисциплин слабо регламентируют условия собственной профессиональной жизни, результаты их систематической деятельности, пускай самые компромиссные в содержательном отношении, вносят решающий вклад в придание реальности ее воспринимаемой и узнаваемой формы. Происходит это по мере интеграции академической экспертизы в государственное управление. Уже в 1960-е годы, включившись в экспертный корпус государственного аппарата, социологи, психологи, философы не просто воспроизводят в академическом регистре понятия, звучащие с высоких государственных трибун. Через публичные дискуссии и вал публикаций они активно участвуют в придании новых смыслов политическим понятиям. В форме докладов и аналитических записок академические эксперты поставляют первичный речевой материал для публичного политического высказывания, а затем закрепляют политически освященные смыслы понятий в доктринальных и исследовательских публикациях. Результатом этого двойного переноса становится институциализация нетривиальных понятийных связей, которые сообщают новый смысл кардинальным политическим универсалиям. Именно так в административный и академический оборот 1960-х годов вводятся прежде невообразимые комбинации: «научно-технический прогресс» и «личность», «научно-технический прогресс» и «свободное время»[14], – которые неявным образом перехватывают более ранние милитаризованные определения политической универсалии «социализм» и переводят ее в мирный, отчасти «буржуазный» контекст.
Демонтаж режима «научного социализма» и становление центров внеаппаратной и негосударственной экспертизы как конкурирующей, если не доминирующей формы интеллектуального участия в государственном управлении, вносит структурные изменения в этот процесс, но отнюдь не отменяет его. Даже то, что социологи, экономисты, политологи говорят сегодня об обществе торопливо или недобросовестно, придает смысл текущему балансу сил, который закреплен в понятиях «средний класс», «трудовые ресурсы», «бедные», «электорат», «элиты», «производительность» и т. д. В этих обстоятельствах перестают действовать в иных случаях решающие различия между образцовым теоретическим высказыванием и рутинной аппаратной речью, высотами интеллектуальной изобретательности и нищетой политического сервилизма. Академические ученые и университетские преподаватели говорят то, что говорят. И весь корпус публичной речи, более не нуждающийся в предварительном государственном лицензировании, может быть использован и используется политически post factum. Вклад научных и образовательных институтов в производство политических понятий, со всей механикой интеллектуальных страховочных механизмов, которые заранее встроены в их публичный оборот, делает вдвойне опасными ограничения, которые диктует историческая семантика понятий. По меткому замечанию Пьера Бурдье, «всякий анализ идеологий в узком смысле как легитимирующих дискурсов, не включающий в себя анализ соответствующих институциональных механизмов, рискует стать не более чем добавочным вкладом в эффективность этих идеологий»[15]. Демистифицирующая цель историко-социологического исследования понятий состоит в том, чтобы соотнести эту публичную речь с условиями ее производства, которые снабжают такую речь способностью размечать реальность, придавая последней актуальный и перспективный смысл.