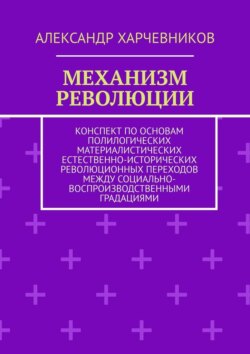Читать книгу Механизм революции. Конспект по основам полилогических материалистических естественно-исторических революционных переходов между социально-воспроизводственными градациями - Александр Харчевников - Страница 12
5. Исторические эпохи восходящего развития
общества
5.1.1. Переломная первобытность
О форме переломной первобытности
ОглавлениеВ порядке иллюстрации многообразий типологического плана, наблюдается огромная терминологическая пестрота форм, например, -раннепервобытная, позднеродовая, семейная, соседская, сельская, территориальная община. При этом продолжаются обсуждения еще более глубоких структур, генетических и функциональных соотношений семьи, общины, рода и племени, праобщины и предобщины. Внимание исследователей распространяется и на когнитивные моменты развития и др.
Ясно, что в теории преодоления апополитейной, то есть, подлинной и тогдашней первобытности, следует оперировать на такую же по глубине структуру, которая в своих основаниях перекрывает, но не отменяет все многообразия собственно переломного состояния первобытности.
Вообще же, у состоявшихся явлений строгих критериев не было, нет, и не будет. Поэтому внести определенность способна лишь конечная теория.
Можно считать, что форма жизни сначала была представлена праобщинами, или многопоколенными стадными образованиями численностью в 10 – 20 особей исторически позднее их численность выросла. Эти стадные праобщины, беспрерывно гибли и исчезали. Поэтому первобытное состояние не следует соотносить с отдельными людьми, вспоминая миф экономического догматизма о «необходимом продукте», но и даже с отдельными стадами и с популяциями! Короче, это была «размытая, локально-цепная форма, но всего тогдашнего человечества», а точнее, еще животной (природной) формы бытия уже людей» [43, с. 92].
В этом переломном состоянии еще не было ни семьи, ни рода как структуры, ни общины, ни племени. При этом уже складывался один род как вид людской в форме стихийно «тасующихся стад», – праобщин, которые, можно сказать, образовывали «микросоциальные элементы одной кроваво и мучительно „человечащейся“ большой популяции».
В кризисной форме переломной первобытности еще не было, не возник, «общественный процесс производства» (Маркс). Здесь важно отметить, что терминологический оборот «общественный процесс производства» есть тавтология терминов «общественный» и «производство» («процесс производства»), ибо и то и другое есть «общественное». Таким образом, отсутствие аспекта «общественности» означает, что собственно стадная форма людей сложилась как именно биологически наиболее приспособленная в борьбе за выживание.
В этой связи А. С. Шушарин итожит:
«Как в видовом (биологическом), так и уже в постбиологическом содержании человечество было уже локально-целостным, пронизанным многочисленными взаимосвязями; и человек по всем краям был уже человеком во всех его бесконечных измерениях. … Сапиентация (или гоминизация) завершилась; „конкуренты“ истреблены или самоистребились; но именно кризисная форма представляла собой все большую противоположность человеку, низвела его же до предела „животного состояния“, скотского, зверского, жестокого» [43, с. 93].
Животные не бывают жестокими и не зверствуют, хотя и пожирают (убивают) друг друга, равно, как иные щиплют траву. Человек же в обществе, – убивая, знает что делает. Поэтому низведение до животного состояния в кризисной форме переломной первобытности следует понимать как доведение до предела самогó этого «животно-парадоксального состояния».
Таким образом именно сложившемуся человеку, с его развитым до изощрения мышлением, поведением и развивающейся организацией, с немыслимой до него вооруженностью, перед которой его же телесность беззащитна, «стало невыносимо, – акцентирует автор полилогии, – смертельно в остающейся дообщественной форме жизни».
Формально имеет место производность индивида от общественного и, как общепринято (по Марксу), человек это «совокупность общественных отношений», следовательно «социогенез есть сущность антропогенеза». В частности, К. Маркс утверждает, – «…сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» [18, с. 3].Однако, лишь формально правильный момент производности индивида от общественного, эта позиция ставит себя в теоретический тупик.
Конечно, некоторой стороной социогенез реализовался, нарастая как стадная микросоциальность в биологической форме самой стадной структуры, организации, иерархии, поведения, взаимосвязей и пр. Потому социальность и её элементы можно найти уже в раннем палеолите (Палеолит (камень) – первый исторический период каменного века с начала использования первых колотых каменных орудий гоминидами (род homo), около 2,6 млн. лет назад).
Однако, очевидно, что эти реально сложившиеся связи не могли быть действительно общественными. Такая коллизия, как столкновение противоположных точек зрения на возникновение человека и социальности, и позиция – «не могли быть эти действительно реальные связи уже действительно общественными», допускается в полилогии и сравнивается по аналогии со следующим примером. Так, например, – «не могли уже вполне реальные товарные запасы или денежные накопления быть до капитализма уже торговым или ссудным капиталом, ибо складывались еще в феодальных формах (поэтому в строгом теоретическом значении ростовщический или купеческий «капитал» – это еще не капитал; при любых формальных сходствах)» [43, с. 94].
Производительные силы, как традиционно принято считать, будучи еще в своём изначальном бесформном, и хаотизированном состоянии, складываются в недрах и формах старой системы, то есть складываются до обретения ими присущих им же имманентных общественных форм. В случае же рассматриваемой переломной первобытности в её эволюционно-формационном и прорывном революционном этапах развития, – «складываются до «вообще обществ». Наконец, в том числе и в тезисах классики, – «главная производительная сила» переломной первобытности, сложившаяся еще в старой системе есть человек, – уже человек. Короче, не ранее упомянутые просто «слова», «вещи», «орудия» и др. артефакты соответствующие этой производительной силе, а именно сам «человек во всех его взаимосвязях с другими людьми» [43, с. 94].
Переломная первобытность, как уже отмечалось, это есть жизнь еще не общества, а животно-образная форма жизни, – жизни уже людей. Такой образ жизни напоминает образ труда, когда труд был еще «животно-образным». Эта жизнь, утверждает полилогия, и «должна» была быть взорвана этими уже людьми, чтобы выжить, ибо природных, можно сказать, животно-биологических механизмов было уже недостаточно для выживания, а, грубо говоря, сами эти механизмы превратились в самоубийственные.
Для такого взрыва, на эволюционной стадии, «между двумя скачками» – от первичного выделения (австралопитеков) из животного царства, (но и еще в его же рамках) до утверждения на Земле неоантропов – «в борьбе за уникальную экологическую нишу были последовательно истреблены десятки промежуточных видов, в результате чего социальный мир оказался отделенным от зоологического пропастью», – цитирует Назаретяна А. П. [28, с. 86] автор полилогии [43, с. 94].
Далее, автор полилогии отмечает:
«Так, именно с концом мустьерской культуры всегда связывается появление уже неоантропа, современного человека, речи (…), искусства, которое, … «возникает только вместе с людьми современного типа, т.е. примерно на 2—2,5 млн. лет позднее, чем появились первые орудия» [32, с. 201], так сказать, «средства производства». С этим же позднемустьерским временем П. П. Ефименко соотносит начало оседлости [7, с. 353]. … С этим же временем А. П. Окладников связывает новое отношение к умершим, выраженное в уже сложных по характеру действиях захоронения трупов, начала уже человеческой нравственности, человеческого «отношения к смерти» … И т. д.
Вместе с тем именно в то же мустьерское время между праобщинами, … почти исчезли контакты, взаимовлияния, были редки миграции, преобладала замкнутость, изолированность коллективов, застойность (стагнатность), …. В то же время в конце мустьерского периода (35 – 40 тыс. лет назад) человек уже со всей определенностью есть. Поэтому и совсем другая картина. «…Если мысленно, – как пишет Я. Я. Рогинский, – перешагнуть мустьерское время и начало позднего палеолита», – вновь обширные миграции [32, с. 164]. Именно в этот «мутный», поневоле «перешагнутый» период «ничтожный культурный прогресс при радикальных морфофизиологических изменениях» еще предлюдей, с появлением человека современного вида сменяется на «диаметрально противоположное отношение этих тенденций» [11, с. 21], происходит резкое разбегание и организационных форм обществ [11, c. 26], и археологических эпох [11, с. 15] и т. д.
Вот этот-то неуловимый, бурный период и есть начало образования обществ, взрыв, когда недоочеловеченные предки или просто отстающие гибли и уничтожались, но когда уже начали с конца верхнего палеолита сохраняться и синполитейные формы примитивных, но уже обществ или культур, культуры вообще, но вот уже теперь с возникающими ее «горизонтальными» многообразиями и уровневыми полиэволюциями» [43, с. 95].
Итак, в переломной первобытности её объектом в его предметном содержании является (был) сам человек, но не отношения людей, коих как отношения людей ещё и не было и тем более не было самих этих людских отношений. Ибо были, до этого «начала образования обществ, взрыва, когда недоочеловеченные предки или просто отстающие гибли и уничтожались», лишь отношения животной (природной) формы бытия этих людей.
Здесь еще не было ни семьи, ни рода (в значении структуры), ни общины, ни тем более племени, а потому были, лишь стихийно биологически тасующиеся стада и лишь позже – праобщины, как микросоциальные элементы одной кроваво и мучительно «человечащейся» популяции. Тем более, в этой кризисной форме еще не имел места, как писал Маркс «общественный процесс производства», то есть процесс производства, символизирующий этим само возникновение «общественного» и «общества».
Таким образом этот человечающийся объект «человек» животного состояния от тасующиегося стада встал в центре «субъект- (объект) -субъектных отношений» в связи с ним самим, но… как уже было показано эти отношения были животные, а не человеческие, хотя и между «человеками». В этом и заключалось основное противоречие переломной первобытности, приведшее в условиях критического состояния праобщин и всей культуры переломной первобытности к взрыву и «началу образования обществ».
Обратимся к таблице рисунка 3 и построим по подобию схемы рисунка 4 схему механизма революционного процесс обобществления базового типологического объекта «человек», или «социализация гоминидов» (рис. 7). Гоминиды – это биологическое семейство существ, к которым относятся люди. Буквально, слово «гоминид» означает – «человекоподобный».
Рис. 7. Революционный процесс обобществления «человечающегося» объекта «человек» «животного состояния» из «тасующиегося стада», или социализация гоминидов
Критическое состояние тасующегося стада людей с животными отношениями зашло в предел, обусловленный самим их существованием. Так и как сегодня товарные (товарно-денежные) отношения капитализма зашли в предел критического самовозрастания капитала и его замкнутости в этом росте самого на себя как некого смысла его существования. Таким образом, предел развития переломной первобытности в части самоуничтожения самой жизни человекоподобных, уже почти людей, замкнулся в этом росте человечных способностей к мышлению и умению противоборства с себе подобными, замкнулся на уничтожении себе подобных. Замкнулся на резко возросшей паранекротичности (гибельности, состояние близкое к смертности, но обратимое) в отношениях самой человечащейся популяции человекоподобных гоминидов.
Историческое преодоление этого паранекротичного момента заключалось, говоря современным языком социологии, в смене типа отношений. Эта смена содержательно проявлялась, во-первых, в обобществлении отношений между человекоподобными. Во-вторых, – в отказе (снятие) от «животных отношений» как отношений «зверства» (микросоциально-биологическое общение на всём протяжении онтогенеза человека – Б). И, в-третьих, – в принятии в качестве доминирующих отношений – «культурно-духовного общения» – Общ. То есть заключалось и проявлялась в принятии и доминировании нового способа действительной жизни, её производства и воспроизводства, как «Общей жизни» (см. рис 7).
Преодолевающий сдвиг этого революционного процесса есть обобществление объектов «человек» из тасующиегося стада, или социализация гоминидов (см. рис. 7). Это революционный доминирующий типологический объект действительной жизни уже людей, пусть и первобытных (апополитейно первобытных) «людей без общества».