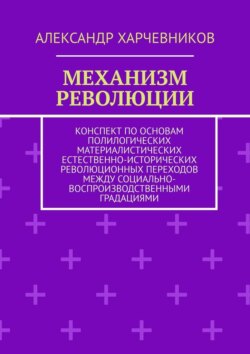Читать книгу Механизм революции. Конспект по основам полилогических материалистических естественно-исторических революционных переходов между социально-воспроизводственными градациями - Александр Харчевников - Страница 8
5. Исторические эпохи восходящего развития
общества
5.1. Эпоха человека (первобытность)
ОглавлениеМожет показаться, что обращение к далекой первобытности вызвано лишь научно-археологическим интересом. Однако дело не в высоком понимании культуры, хотя и этот момент безусловен. Дело в том, пишет А. С. Шушарин, что:
«… то, что „творилось“ в те незапамятные времена, уже в более развитом содержании в снятых формах „происходит“ с каждым из нас и сейчас, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Имманентные первобытности, базовые взаимодействия лежат в основе всех других общественных процессов и отношений, но и не как нечто архаическое или омертвевшие геологические пласты, а, наоборот, как основополагающая инфраструктура бытия, как самое живое и глубокое тело самой жизни, над которым „наслоены“ все остальные формы. Вот это и есть самый глубокий и толстый „слой“ (в образах Ф. Броделя …), который не виден экономизму или виден в извращенном свете, как в либеральном, так и в марксистском вариантах» [43, с. 60].
Подобную позицию отстаивал и Ф. Энгельс, так он писал в работе «Анти-Дюринг»:
«… эта „седая древность“ при всех обстоятельствах останется для всех будущих поколений необычайно интересной эпохой, потому что она образует основу всего позднейшего более высокого развития, потому что она имеет своим исходным пунктом выделение человека из животного царства, а своим содержанием – преодоление таких трудностей, которые никогда уже не встретятся будущим ассоциированным людям» [44, с. 119].
«Первые выделявшиеся из животного царства люди были во всём существенном так же несвободны, как и сами животные; но каждый шаг вперёд на пути культуры был шагом к свободе» [44, с. 117]. В полилогии это так же и шаги преодоления «несвобод».
Наконец А. С. Шушарин подчёркивает:
«Э. Дюркгейм считал необходимым (…) подчеркнуть примерно такое же понимание: «Это была настоящая протоплазма, зародыш, откуда возникли все социальные типы». Крайне примитивно, но там были уже все потенциальные формы человеческого бытия. Именно в этом же смысле, надо полагать, можно понять остроумный тезис М. Я. Гефтера: история начинается не с нуля, а с начала.…
Философы здесь могли бы задать хитрющий, а по сути логически просто неразрешимый вопрос – а не приписывается ли первобытности ее пониманием как «основы всего позднейшего» слишком много. Однако мы приняли гипотезу (которая логически не «обсуждается») негэнтропийного развития материи в анизотропии по сложности (…). А в таковом понимании первобытность и составила материальную возможность всего дальнейшего социального развития или, в образах постдарвинизма, априорную предрасположенность (но только не направленность!) к нему. А уж как она сама образовалась в том же негэнтропийном развитии, а до нее – жизнь и т. д. – это уже забота следующих генерализующих теорий» [43, с. 60—61].
В этой связи небольшая вставка.
Единство биологического и социологического развития живого (гипотеза)
Здесь уместно напомнить о высказанной в 2013 году автором гипотезе, кратко изложенной в Приложении 2 «Кто впереди? – Муравьи!» книги «Теория Информационного общества…» в параграфе «1. Единство биологического и социального развития живого (гипотеза)» [38, с.643].
Биосоциологический анализ на основе концептуальной базы метатеории полилогия позволил выдвинуть гипотезу о единстве биологического и социологического в развитии живого. Эта гипотеза раскрывает механизм развития живого по сложности и с единых позиций социологии и биологии объясняет и описывает восходящее развитие жизни, живой материи, от простейшей клетки до человечества, от коалиции живых структур до общества людей.
Известно, что социальность первоначально возникает как «физическое» свойство жизни, и лишь затем, после эволюционного восхождения по сложности, дает начало социальности поведенческой. Тогда как общество как система «суперорганизма» (надорганизменной целостности) и сама «социальность» закодированы не только на уровне гена клетки, что являет миру общество как следствие совместной жизнедеятельности всех клеток, но и также как следствие совместной жизнедеятельности на уровне особи, то есть и на уровне человека. Последнее не вызывает сомнений и рассматривается в рамках социологии общества (людей).
В частности, проявлением фундаментального закона органической жизни, по мнению д. б. н. Панова Е. Н., является:
«… потребность живых существ, способных к самопроизвольному движению (будь то одноклеточные организмы или высшие животные), поддерживать контакт с другими представителями своего вида есть лишь частное проявление фундаментального закона органической жизни. Суть этого закона в том, что живые структуры всегда, когда есть возможность, образуют коалиции. При этом участники содружества оказываются способными решать задачи, непосильные для каждого из них в отдельности. Сфера действия этого принципа охватывает все этажи органического мира – от взаимодействия слагающих организм клеток до социальных взаимоотношений в популяциях всех населяющих нашу планету живых существ, включая и Человека Разумного» [30. с.12].
Таким образом, «в поведении клеток, слагающих целостный организм, и самих этих организмов» есть общие по сути закономерности.
В процессе эволюции наряду с элементарным историческим развитием и изменением в филогенезе (историческое развитие живой материи, организмов) имеет место также и арогенез, порождающий соответствующий ряд последовательных крупных морфологических изменений. Сила этих морфологических изменений такова, что «требует» существенного социологического переосмысливания (перестройки) всех типологических элементов действительной жизни. Это разделение эволюционного процесса живого можно рассматривать как следствие закона А. Н. Северцева о «смене фаз (направлений) эволюции», когда за периодом крупных эволюционных перестроек – арогенеза (ароморфоза) -2 всегда наступает период частных приспособлений – аллогенезов (алломорфозов), то есть смена одних частных приспособлений другими при сохранении общего уровня организации. Причём имеет место в восходящем развитии именно аллогенез (то есть смена одних частных приспособлений другими, но общий уровень собственно «биологической» организации остаётся прежним).
Так вот в нашем случае, в случае социальной биологии, такими «частными приспособлениями» следует считать типологические компоненты социальной организации живых организмов, в том числе и людей. Тогда, что бы было абсолютно ясно, для человеческого общества в качестве теории такого социального аллогенеза следует в первую очередь указать на фундаментальную социологическую теорию развития общества А. С. Шушарина «Полилогия современного мира. (Критика запущенной социологии)» [42]. Причем представленную в ней главную последовательность градаций восходящего развития как «направленность эволюции».
В этом периоде аллогенеза, следующим за каждым фактом арогенеза, реализуется, так называемый, «закон последовательности прохождения фаз развития», который действует в направлении роста сложности жизнедеятельности вида (в популяции) по всем типологическим объектам действительной жизни как системы (данного вида), что собственно и составляет эндогенную логику развития вида (в терминах Полилогии). Взаимодействие «популяций» одного вида описывается экзогенной логикой развития.
Однако, чтобы в какой-то степени конкретизировать суть излагаемого в этой вставке назовём такие, предполагаемые базовые типологические объекты, символизирующие элементарное историческое развитие и изменение в филогенезе (историческое развитие живой материи, организмов) предшественников человека и являющихся неким завершением крупных морфологических изменений уже арогенеза. Этими базовыми объектами, завершающими «окончание» этапа формирования человека и «требующими» существенного социологического переосмысливания (перестройки) всех типологических элементов его действительной жизни, являются: мозг человека (материальная основа первой и второй сигнальных систем человека), разум (мышление) человека, язык человека.
В результате этого предшествующего развития и стало возможным последующее социальное развитие уже собственно человека, а именно homo sapiens (от латинского: homō, «человек» + sapiēns, «мудрый, разумный, рассудительный»).
Наконец, следует напомнить, что к настоящему моменту истории можно строго говорить лишь о шести «разрывных узлах прорывов (это не „формации“, а главная последовательность!) критических (преодолеваемых) эндогенных форм и скрытых за ними искомых базовых структур» [43, с. 63]. Из них только для пятой есть действительная (критическая, парадоксальная) теория К. Маркса «Капитал».
В связи с этим напомним, что, строго говоря, собственно пятитомный труд А. С. Шушарина «Полилогия современного мира…» есть теория лишь последовательности «разрывных узлах прорывов», а не «формаций». Эти «формации» в последующем, в полилогических исследованиях, в частности в рамках эндогенной логики отдельно взятой страны, были переименованы в «градации» (устар. – формации). При этом собственно «формации» остались лишь как термин экзогенной логики исторического развития человечества в целом, как всей совокупности стран и народов. То есть эта метаморфоза в терминологии так или иначе была связана с введением в научный оборот двух упомянутых логик восходящего исторического развития социума по сложности.