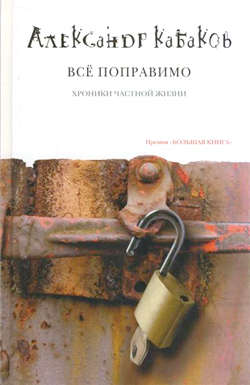Читать книгу Все поправимо: хроники частной жизни - Александр Кабаков - Страница 11
Книга первая
Глава десятая. Испытания
ОглавлениеОтец пришел с завода и за ужином сказал, что послезавтра будут испытания. Офицерам велели предупредить семьи, потому что всем надо спуститься в первые этажи к соседям и сидеть там с двенадцати дня до половины второго, лучше всего в прихожих, где нет окон. Занятий в школе не будет, и магазин будет закрыт, а если Мишка вздумает выйти на улицу, то… Отец не сказал, что, но и так было понятно.
Что такое испытания, Мишка уже знал, были полгода назад, и Мишка сохранил интереснейшие воспоминания. Поэтому наутро бежал в школу с радостью, собираясь сообщить новость, но новость, конечно, все уже знали, отцы, как и следовало, предупредили. А на втором уроке, на литературе, пришел Роман Михайлович и объявил, что завтра занятий в первой смене не будет, задания переносятся на следующую неделю, и от себя повторил, чтобы все сидели по домам, а кто будет замечен на улице, получит четверку по поведению сразу в четверти.
Киреев подошел на большой перемене и сказал, что у него есть секретный план и после уроков надо поговорить. Мишка, не отвечая – с Киреевым они ни при ком не разговаривали, запрет обоим был строжайший – кивнул и стал ждать конца уроков.
Домой пошли разными дорогами и встретились за стройкой Дома офицеров, которая снова шла полным ходом, и стены с неровными оконными проемами поднялись уже почти на два этажа. Сели на почти сухие бревна, Киреев достал из шапки две папиросы «Север», а Мишка вытащил из портфеля лупу. Долго ловили солнце, наконец навели зайчика на конец одной из папирос, она почернела и задымилась, Киреев стал пыхтеть, как паровоз, раскурил, выпустил дым, откашлялся, а Мишка тем временем стал у него прикуривать – при этом Киреев, конечно, отдергивал папиросу, приговаривая сквозь кашель «сколько раз козу ёб?», Мишка сказал, что три, и с третьего прикосновения сумел прикурить. Посидели, выпуская синий с желтизной дым и плюясь.
– Ну, рассказывай план, Кирей, – сказал наконец Мишка, почувствовав, что голова уже закружилась.
Киреев немного покривлялся – «Я тебе скажу, а ты мамочке своей расскажешь» – и рассказал. План был мировой.
Завтра, когда все спустятся в первые этажи и усядутся в прихожих на принесенных с собой стульях и табуретках – мать и сестра Киреева собирались спуститься в погреб своего финского дома, – надо будет убедить матерей не включать свет, сославшись на то, что директор школы Роман Михайлович дал такое дополнительное указание. Матери поверят, потому что испытаний боятся. Но Кирееву, вероятно, не удастся выбраться из подвала незамеченным даже в темноте – надо поднимать тяжелый люк, он скрипит и вообще, а Мишка сможет выскользнуть из прихожей в комнату, там посмотрит в окно, что происходит во время испытаний, а потом все подробно расскажет Кирееву и другим в классе, кому захочет. В самом же крайнем случае, даже если Мишку поймают, ничего страшного не будет, потому что он же не на улицу выйдет, а скажет, что захотел в уборную.
Мишке план не только понравился, но и показался удивительным: Киреев придумал такое, в чем не он, а Мишка должен играть главную роль. Однако потом, уже подходя к дому, Мишка понял, отчего приятель проявил такую скромность и бескорыстие – ведь даже если б не подвал, из которого выбраться незаметно действительно нет никакой возможности, то Киреева все равно никто в классе слушать не стал бы и все, что он мог увидеть, пропало бы без всякого толку.
Утром, как только отец, надев полевую форму, гимнастерку с портупеей, старую ушанку и полушубок, ушел, Мишка начал осуществлять план. Убедить мать, что сидеть придется без света, ничего не стоило, она легко поверила, что отец об этом просто забыл сказать, а в школе предупреждали. Во время прошлых испытаний велели не только спуститься в первые этажи, но и взять с собой вещи первой необходимости – кружки-ложки, запас еды на сутки и запасное белье, так что теперь мать поверила бы во что угодно.
Спустились к нижним соседям Нечаевым уже в одиннадцать, расставили стулья в прихожей, расселись. Мать сидела рядом с тетей Тамарой Нечаевой, на руках у тети Тамары пристроилась маленькая Женька Нечаева, второклассница, а рядом поставили плетеную корзину с родившимся перед Новым годом братом Женьки Юрочкой. Мишка совершенно естественно оказался сидящим несколько в стороне, уже почти в коридоре. Сидел он на маленьком венском стуле, который принес из своей прихожей, так что, когда без пяти двенадцать погасили свет, Мишкина голова оказалась ниже идущего из кухни через коридор мутного дневного света, и ее контур, Мишка понял, не был никому виден, что тоже получилось удачно.
Посидели несколько минут в темноте. Женщины тихонько переговаривались о шитье, Женька негромко ныла, что ей страшно и скучно, спящий Юрочка сопел в корзинке. Вдруг с улицы послышался нарастающий шум моторов, какой бывает, когда идет колонна грузовиков. Все замолчали, и тут Мишка, вылезши из домашних тапочек, в которых пришел, на четвереньках шмыгнул в коридор и оттуда через предусмотрительно приоткрытую им заранее дверь в комнату, окно которой выходило в сторону завода. Здесь шум моторов слышен был лучше. Он встал на ноги, на цыпочках скользнул к окну и отодвинул белую занавеску-задергушку.
За окном шли «студебеккеры». На большой скорости они катили от центральной проходной, направляясь туда, где кончался городок и за тремя рядами колючей проволоки стояли длинные бараки, которые назывались зоной. Брезентовые тенты были сняты, и люди, тесно стоявшие в кузовах, держались за металлические ребра, на которые тенты натягиваются.
«Студебеккеры» шли один за другим, рассмотреть людей в кузовах Мишка не успевал, видно было только, что все они в одинаковых телогрейках и солдатских шапках.
Мишка сразу сообразил, что это перед испытаниями с завода вывозят заключенных. Обычно их возили на завод еще на рассвете, а с завода уже поздно вечером, к тому же машины шли не через городок, а вокруг, поэтому увидеть эти грузовики в другие дни можно было только случайно. Но сейчас решили, видно, везти короткой дорогой, поскольку все равно весь городок сидел по прихожим и никто этой колонны, кроме Мишки, не видел.
Грузовики все шли. После каждых трех ехал открытый «додж – три четверти» с солдатами. Солдаты сидели вдоль бортов, поставив между ног карабины «эскаэс». Люди в кузовах «студебеккеров» покачивались, но упасть не могли – стояли плотно. Моторы рычали.
Наконец колонна ушла, скрылась в конце улицы последняя машина, наступила тишина.
И почти сразу же со стороны завода небо озарилось огнем, над стеною поднялось зарево, и ударил такой рев, что Мишка, хоть и был готов ко всему, присел ниже подоконника и закрыл уши руками. Рев нарастал и дополнился свистом. В окне полыхало. Мишка заставил себя выпрямиться и снова выглянуть.
Небо над заводом горело, сине-багровым огнем пылали облака. Рев изменил тон, теперь это был визг, будто за стеной завода работала круглая электрическая пила, вроде той, которой распиливали вдоль бревна на стройке Дома офицеров, только в тысячу раз больше. Пламя прыгало по небу, то поднимаясь в невообразимую высь, то опадая и почти скрываясь за заводской стеной.
И вдруг все кончилось. Мишка постоял еще минуту, оглушенный и ничего не соображающий, и только потом, опомнившись, упал на четвереньки и вполз в прихожую, когда там уже включили свет. Мгновенно придумав, что это он ищет тапочки – в сущности, так и было, – Мишка встал на ноги, взял стул и собрался идти домой, но тут его внимание привлек конец фразы, которую как раз договаривала тетя Тамара.
– …там ваши людей травят, а тут режимный городок, а вы хоть бы хны, – закончила говорить тетя Тамара.
На мать при этом она не смотрела, а возилась с Юрочкой в корзине, вытаскивая из-под него мокрые пеленки. А мать стояла, уже сделав шаг к двери, но не закончив его, выставив одну ногу, как гипсовая пионерка в сквере за клубом. Глаза ее были прищурены больше обычного, поэтому выражение лица казалось еще более презрительным, чем всегда, но Мишка знал, что с таким лицом мать начинает плакать, и испугался, что она заплачет прямо сейчас, у Нечаевых, поэтому дернул ее за руку и, держа в другой руке стул, почти потащил домой, молотя языком всякую чепуху насчет обеда, лишь бы отвлечь мать и увести. И мать послушно пошла к двери, но, выходя, все же обернулась к тете Тамаре, слезы все-таки вылились из ее глаз, и она успела ответить.
– Я думала, что вы умнее, Тамара, – сказала мать, и от этих ее слов Мишка совсем испугался, потому что мать никогда так не говорила никому из посторонних, могла только Мишке сказать, или отцу, если тот приходил с завода слишком веселый и сильно пахнущий спиртом.
И Мишка еще сильнее потащил мать домой, они вышли от Нечаевых, не закрыв за собой дверь, поднялись к себе, мать сразу же ушла в ванную и там заперлась – очевидно, плакать, а Мишка стал у окна, но за окном все выглядело самым обычным образом и над заводской стеной небо было обыкновенное – серое.
Все, что произошло, требовалось обдумать. И Мишка стоял у окна, дожидаясь, пока мать успокоится и выйдет из ванной, чтобы отпроситься у нее гулять – уроков-то нет, весь день свободен, – и, сев на бревна возле стройки Дома офицеров, подумать как следует, пока Киреев не придет.
Но мать все не выходила, и Мишка спросил через дверь, нельзя ли теперь пойти гулять часов до пяти, а в полшестого, самое большее, он будет дома. Тут же дверь открылась, и мать вышла с вымытым мокрым лицом и влажными спереди волосами. Не глядя на Мишку, она прошла в комнату, легла на диван, попросила дать ей таблетку пирамидона из аптечки, воды запить и пятый том Диккенса, после чего Мишке можно идти гулять, но по лужам на стройке, конечно, не лазить, шарф не развязывать и пальто не расстегивать.
Мишка сидел на бревнах и старался думать по очереди.
Сначала он, естественно, думал про испытания. Он – да и никто в школе – толком не знал, что именно делают на заводе. Киреев предполагал, что атомные бомбы, но Киреев был настоящий дурак, потому что если бы на заводе испытывали атомную бомбу, то, Мишка читал в «Комсомольской правде», от городка бы ничего не осталось, а у людей сразу вылезли бы волосы и все ослепли бы. Кроме того, Мишка вообще не верил, что в СССР делают настоящую атомную бомбу, потому что одно – американский империализм, которому никого не жалко, ни японское мирное население, ни корейцев, а совсем другое – СССР, который, конечно же, никогда не будет бомбить американских трудящихся, особенно негров, например, Поля Робсона, или писателей, как Говард Фаст. Как бы то ни было, никакая это была не бомба, понятно.
Но что это было, представить себе Мишка не мог. Он допускал, что на заводе могли делать реактивные самолеты, но почему-то ему казалось, что от реактивного самолета такого огня быть не может, потому что самолет и сам может сгореть.
Однажды, Мишка уже не помнил, когда, мелькнуло слово «ракета», но оно Мишке не показалось интересным, потому что ракеты он видел, это были небольшие картонные трубки, которые заряжались в ракетницу, специальный пистолет с толстым стволом, и вспыхивали в высоте белой холодной звездой. Прошлой зимой, в самые морозы, отца подняли ночным телефонным звонком, он тепло оделся и ушел, а когда вернулся утром, у него в кармане полушубка лежал такой пистолет, а в другом – две ракеты, и из разговора Мишка понял, что из части убежал солдат, его всю ночь ловили в степи, а ракеты были нужны, чтобы подавать тем, кто ловил, сигналы. И трудно было представить ракету – даже если ею стрелять не из пистолета, а из пушки, которая горела бы таким гигантским пламенем, какое видел утром Мишка над заводским забором. Да и зачем такая ракета нужна?
Ничего Мишка придумать не мог. А от утреннего впечатления осталась только одна невнятная мысль: он вспомнил детские сказки о псе, который дышит огнем, и в сочетании с воспоминаниями об овчарках, бегавших за заводской стеной, громыхая поводками по проволоке, представление об огнедышащем звере укрепилось, и Мишка постепенно перестал думать об испытаниях. Зверь стал как бы понятным, и жизнь его за стеной на мгновение показалась Мишке даже вполне целесообразной: зверь охранял городок, следил из-за стены за людьми и стерег их, чтобы никому в голову не пришло, как тому солдату, сбежать, а время от времени – как сегодня утром – демонстрировал свою силу. Этот огненный выдох и назывался испытаниями, которые следовало выдержать живущим в городке.
Мишка от всех этих детских глупостей даже плюнул на землю между своими широко расставленными галошами, надетыми на валенки, и стал думать о другом.
О чем говорила тетя Тамара, он легко понял. Снова выполз из памяти уже полузабытый «космополитизм», снова заныло в животе от мысли про дядю Петю. Из обрывка фразы, которую сказала тетя Тамара, как-то – Мишка не мог понять, как именно, но не сомневался – следовало, что дядя Петя и мать все-таки космополиты, а то, что дядя Петя еще и ювелир, не имеет большого значения, и что дядя Гриша Кац тоже космополит, и дядя Лева Нехамкин с тетей Тоней, и, может быть, даже отец, и ничего не кончилось, и не будет никакого поселения дяди Пети дома, и летом они не поедут в Москву к Малкиным, и вообще все плохо, опять плохо, мать плачет, ничего не кончилось.
Мишку стало даже знобить, он испугался, что простудится и опять заболеет – полкласса, выйдя после кори, уже заболели простудой, а у Инки Оганян уже даже было воспаление легких, и она лежала в гражданском отделении госпиталя вместе со взрослыми женщинами. Болеть совершенно не хотелось, потому что как раз договорились с Ниной идти в кино в субботу на «Тарзана» в третий раз, и Мишка встал, замотал шарф, застегнул пальто и стал ходить в ожидании Киреева вокруг бревен, топая галошами и пробивая тонкий лед на мелких лужах до дна, так что выступала светлая прозрачная вода и поднималась примерно до половины галош.
Что может произойти с матерью, отцом и самим Мишкой из-за космополитизма, он представлял плохо.
Никаких конкретных предположений у него не было. Что заберут в тюрьму мать или отца, он представить никак не мог, хотя дядю Петю в тюрьме представлял, причем, вспоминая прочитанное письмо, представлял в довольно комичном виде: вот он, в своем длинном сером габардиновом макинтоше, рубит дрова, неловко замахиваясь топором, топор застревает в полене, и дядя Петя пытается его вытащить, а вот он растапливает щепками и газетами железную печь, печь дымит, а дядя Петя вытирает глаза уголком галстука, которым он обычно протирал очки… Но представить в таких же обстоятельствах отца или тем более мать Мишкиного воображения решительно не хватало.
Точно так же он не мог представить себя в малолетней колонии, о которой у него вообще никакого ясного понятия не было – так, какой-то кошмар вроде большой больничной палаты, в которой он однажды лежал с подозрением на аппендицит.
И заключенные, которых он видел утром, никак в его сознании не связывались ни с отцом, ни с матерью, ни с дядей Петей. Он, оказываясь иногда на краю городка, проходил вдоль тройной колючей проволоки, иногда смотрел на бараки за ней, но никакого интереса все это у него не вызывало. Вокруг бараков было чисто выметено и пусто, солдаты на вышках дремали стоя, надвинув на глаза ушанки, иногда за проволокой торопливо проходил человек в ватнике – он нес охапку дров, или большой бидон для супа, или еще какую-нибудь хозяйственную вещь. Появившись из одного барака, он быстро скрывался в другом, и следа от него не оставалось ни в пространстве, ни в Мишкиной памяти. Заключенные были такой же принадлежностью, скорее, завода, чем городка, как длинная кирпичная стена с овчарками за ней, длинные кирпичные здания цехов за стеной, две не очень высокие, но толстые кирпичные трубы там же и рев зверя раз в несколько месяцев – как сегодня. Заключенные не были людьми в обычном смысле этого слова – например, как пропадавший по командировкам дядя Федя Пустовойтов, или мать, или историчка и классный руководитель Нина Семеновна, – скорее, они были, как солдаты: чтобы разглядеть в любом человека, надо было познакомиться, как с часовым, допустим, на капэпэ, или с тем узбеком-сержантом на стройке, а все вместе они были просто солдаты или просто заключенные, и всё.
И, конечно, Мишка никак не мог представить себе дядю Петю в таком ватнике, тем более – отца, и уж никак – не мать.
Тем не менее, вспомнив про увиденные утром «студебеккеры», Мишка как-то непривычно и дополнительно расстроился, а отвлекшись от этого воспоминания, стал снова думать про дядю и мать с отцом и еще больше расстроился.
Тут как раз пришел Киреев.
Уши шапки с кожаным верхом и вытертым черным мехом Киреев раз и навсегда отогнул назад, а поскольку сейчас было уже тепло, февральское солнце пробило снег местами до черной земли, то шапку Киреев не натянул, а просто как бы положил на голову, сдвинув на лоб, отчего голова его казалась большой, вытянутой вверх. Короткий, заплатанный на правом плече черным косым куском желтый полушубок Киреев, конечно, не застегнул, из-под полушубка видна была старая зеленая гарусная кофта матери Киреева, которую он надевал не в школу. На ногах Киреева были его знаменитые сапоги, поверх которых он ввиду февральской сырости надел старые, с разорванными почти до подошвы задниками галоши. В рваную прореху вылезала красная байковая подкладка галош. Голая шея Киреева торчала из кофты, рыжий чуб из-под шапки свисал на один глаз, под носом, конечно, отливала зеленым сопля, а в голых красных руках Киреев тащил, напрягаясь из последних сил, старое, ржавое и без шины, колесо от полуторки.
– Ты зачем колесо притаранил, Кирей? – спросил Мишка, но ответа не получил.
Пыхтя и надсаживаясь, Киреев затащил колесо на высокую, метра в полтора, гору смерзшегося в монолит песка, привезенного еще летом для нужд стройки. Там он установил колесо на ребро и со страшным криком «атас!» толкнул колесо вниз. Железяка, кренясь набок и описывая большую дугу, покатилась, едва не задела Мишку – он еле успел отскочить – и, проехав метров восемь, упала плашмя, с глухим звоном расколов оказавшийся кстати кирпич.
– Амбец, – сказал Киреев удовлетворенно и, слезши с горки, пнул колесо. – Испытания закончены.
– Какие испытания? – уже раздраженно спросил Мишка. – Чего ты испытывал, дурила-мученик?
Ему хотелось поговорить с приятелем серьезно, а тот игрался, как маленький.
– Представляешь, Мишка, – сказал Киреев, не обидевшись и даже не обратив внимания на «дурилу-мученика», – затаскиваешь такое колесо на гору, а под горой вражеский штаб. Раз – и амбец штабу, понял? Это будет наш танк «Клим Ворошилов». Надо колесо в штаб оттаранить, спрятать. Потащили?
Мишка прижал большой палец к виску и молча повертел раскрытой ладонью, что означало не просто «дурак», но еще и «лопух». Ничего тащить он не собирался. Детская игра в «штабы» – с нападением обитателей одного штаба на другой и разрушением вражеской постройки, беготня с деревянными, выпиленными из доски автоматами «пэпэша», к которым в качестве дискового магазина прибивалась плоская круглая крышка большой, двухкилограммовой консервной банки от канадской тушенки, размахивание из доски же выпиленными по образцам «Великого воина Албании Скандербега» мечами, с треском врезавшимися в фанерные щиты, удерживаемые за прибитые к ним петли из бинта, – давно все это надоело Мишке. А Киреев их штаб обожал, как только становилось тепло, тащил туда Мишку и в войну играл с удовольствием, хотя никто с ним уже не бегал, кроме малышни-четвероклассников. Впрочем, Мишка помнил, что Киреев использовал штаб не только для игры в войну, но и для другого развлечения, но вспоминать это не любил – и не вспоминал, поскольку Мишка умел не вспоминать то, что было неприятно.
Сейчас, чтобы совсем охладить Киреева, Мишке пришлось привести дополнительный аргумент.
– И где ты, Кирей, возьмешь горку возле вражеского штаба? – спросил он иронически. – Насыпешь, что ли?
Киреев на секунду задумался, и Мишка тут же перевел разговор.
– Испытания видел? – спросил он, и по тому, как Киреев стал кашлять и вытирать задубелым от частого такого использования рукавом полушубка соплю, понял, что Кирееву пришлось все время просидеть в подвале с матерью и сестрой и ничего он не видел. Не дожидаясь прямого ответа, чтобы окончательно не унижать товарища, Мишка стал рассказывать о том, что удалось увидеть ему.
Киреев про рев и огонь слушал без всякого интереса, а дослушав, пожал плечами.
– Подумаешь, – сказал он, и Мишка сразу понял, что приятель не пижонит, а действительно что-то знает, неизвестное Мишке. – Отец все давно рассказал, потому что он ночью матери все рассказывает, а я не сплю и слушаю, это испытывают двигатель для такой ракеты, которая долетит до Америки, и от всех ихних небоскребов на Волл-стрите ничего не останется, она сильнее, чем атомная бомба. А твой отец не рассказывал, что ли?
Киреев сморозил очевидную глупость и насчет ракеты, и насчет небоскребов. Но убедительно возразить ему Мишка не мог, потому что действительно почти никогда не слышал, чтобы отец что-нибудь рассказывал о работе, кроме того, кто обмывал звездочку или кого переводят в Москву, Ленинград или Харьков, а если что-то еще и рассказывал матери ночью, то Мишка в это время всегда уже спал, а пока он не спал, мать с отцом лежали тихо и, казалось, сами спали. Мишка задумался о ракете и вдруг вспомнил картинку в книге: бородатый старик в круглой шляпе и маленьких очках, а рядом сигара, похожая на дирижабль, только длиннее, от нее назад отходит сноп огня с облаком дыма, и в этом огне – стрелочки, которые показывают, куда идет сила от огня. Картинка не противоречила Киреевскому рассказу… Впрочем, что это была за книга и что было написано под картинкой, Мишка не помнил.
Чтобы не высказываться по сомнительному поводу, Мишка перевел разговор на заключенных, которых провезли по улице перед испытаниями, но и тут Киреев оказался хорошо осведомленным.
– Они и делают двигатели, – сказал он, – их набрали из всяких инженеров-вредителей и профессоров еще дореволюционных, а еще там пленные немцы есть, тоже инженеры, а твой отец и другие офицеры ими только командуют и следят, чтобы не вредили. Потому что если среди них будет диверсант, то взорвет весь завод и городок тоже… И дядя Коля Носов…
Тут Киреев вдруг замолчал, как будто его заткнули, отвернулся и стал возиться со ржавым колесом, пытаясь его снова втащить на горку.
– Чего дядя Коля Носов? – пихнул Мишка Киреева в бок, а ногой наступил на колесо, чтобы прекратить дурацкое занятие. – Чего, ну?
Киреев бросил колесо и сел на бревна. Мишка сел рядом.
– Курить будешь? – спросил Киреев, взрослым жестом откидывая полу полушубка и доставая из кармана штанов на этот раз мятый «Дукат». – Спички есть?
Спичек у Мишки, конечно, не было, и они стали прикуривать обычным способом – наводя как раз вылезшее солнце через складную лупу, которую Мишка всегда таскал с собой, на край сигареты, пока он не начал тлеть, а потом лихорадочно затягиваясь, чтобы раскурить.
Закружилась, как обычно, голова, рот наполнился слюнями, и мальчишки принялись сплевывать между широко расставленных ног, каждый стараясь попасть в свой предыдущий плевок. Рассказывать про разговор матери с тетей Тамарой Мишка, конечно, не стал, но Киреев как будто бы слышал этот разговор – сплюнув в очередной раз, он затер все плевки ногой и сам заговорил на проклятую тему.
– Чего твоя мать говорит насчет косьма… – Он запнулся, выговорил с трудом. – …летизма? Мой отец сказал, что у них про это скоро собрание будет, там все будут выступать, и Кац – доктор, и дядя Лева Нехамкин, все косьмолиты, а потом генерал сам решит, кому что…
Про собрание Мишка ничего не знал. Обычно про собрание отец говорил накануне, что поздно придет, и приходил действительно очень поздно, когда Мишка уже давно лежал в кровати и должен был спать, но Мишка обычно не спал и слышал, как мать шепотом говорит отцу, что от него опять пахнет спиртом, а отец шепотом оправдывается, объясняя, что после собрания зашли к Сене и немного поговорили. Но в последние дни отец – во всяком случае, при Мишке – ничего про собрание не говорил, а сегодня утром, перед тем как уйти на испытания, сказал только, что в эту субботу заступает дежурить в штабе, значит, придет только в воскресенье вечером, будет допоздна чистить свой никелированный «тэтэ» с желтой дощечкой на рукоятке, на которой косыми буквами написано «Капитану Салтыкову Л.М. по результатам стрельб», а утром в понедельник будет спать допоздна, на службу не пойдет и весь день будет слоняться по дому в пижамных штанах, то прося у матери обед в необычное время, то принимаясь сколачивать какую-нибудь очередную полку из раскуроченной упаковки.
– А чего решит генерал, твой отец знает? – осторожно спросил Мишка, не глядя на Киреева и продолжая галошей растирать землю.
– Отец не знает, – так же не глядя на Мишку и старательно давя галошей докуренную сигарету, ответил Киреев и надолго замолчал, снимая с губ и языка табачные крошки. – Он так сказал: «Могут из партии попереть, но генерал может прикрыть, тогда обойдутся выговорами». А твой отец чего говорит?
Мишка промолчал. Слова «из партии попереть» прозвучали страшно, хотя толком Мишка не мог понять, что они значат. Когда-то вроде он слышал что-то подобное, и осталось ощущение ужаса, катастрофы, но не конкретное, а какое-то всепоглощающее, так что даже нельзя было представить, что именно тут страшно, но не было никаких сомнений, что страшно и непоправимо. Настроение испортилось окончательно, тем более что он, естественно, вспомнил, о чем говорила тетя Тамара Нечаева с матерью, и потому никак не мог надеяться, что «обойдутся выговорами» – хотя и этих слов точного смысла не знал, догадывался только, что это не так страшно, как «попереть из партии». Мишка собрался домой – после испытаний отец мог вернуться раньше, кажется, в прошлый раз так и было, и Мишка боялся пропустить какой-нибудь важный его разговор с матерью, из которого можно было бы что-нибудь узнать.
– Я домой, Кирей, – сказал Мишка, – скоро отец придет, будем обедать… Будь здоров.
– Будь здоров и не кашляй, – ответил по обыкновению Киреев, оставаясь сидеть на бревнах. – Лупу оставь прикуривать, будь друг, я отдам, гад буду.
Мишка знал, что отдаст, но на всякий случай надо было бы взять клятву под салютом всех вождей или пальцем по зубам и по горлу, однако Мишке стало лень выдерживать этот ритуал, и он молча протянул выпуклое стекло, выдвинутое вбок из черной эбонитовой коробочки, приятелю.
Уходя, Мишка оглянулся. Киреев смотрел ему вслед, и на мгновение Мишке показалось, что Киреев сейчас заплачет, – такое у него было лицо.