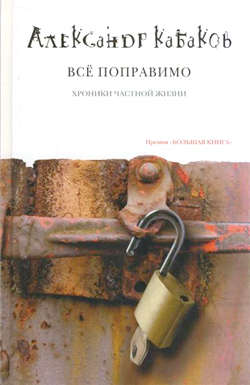Читать книгу Все поправимо: хроники частной жизни - Александр Кабаков - Страница 3
Книга первая
Глава вторая. Уроки
ОглавлениеГеографичка Фаина Абдуловна, как и в прошлом году, ходила с большим животом, и было понятно, что до конца года она опять уйдет в отпуск рожать ребенка, а заменять ее будет кто попало – директор Роман Михайлович, историчка Нина Семеновна или даже Мирра Григорьевна, русский – жопа узкий. Поэтому учить географию и даже просто слушать на уроках не имело никакого смысла, оценки по ней в последней четверти и за год ставили среднетабельные, Мишка все равно получит пятерку, а Киреев – тройку, экзамена же по географии не предполагалось аж до девятого класса. И поэтому на уроках у Фаины, про которую совершенно бессовестный третьегодник Вовка Сарайкин в мальчишеской уборной написал «Хуина Надутовна» и еще нарисовал глупость, хотя Фаина никому ничего плохого не сделала, только кричала и ругалась, – на уроках у нее все делали, что хотели.
Мишка с Киреевым сидели на четвертой парте у окна. Вообще-то Мишка должен был бы сидеть на первой, и, скорей всего, с Надькой, как два классных отличника, но Мишка еще в начале года решительно взбунтовался, мать не особенно настаивала, хотя Киреева, естественно, не любила, а Нину Семеновну, историчку и классного руководителя, Киреев как-то упросил, и теперь они сидели на четвертой, самой лучшей парте в ряду у окон, четвертая была как раз рядом с подоконником, под которым у них был удобный склад в глубокой щели между доской и стеной, толщиной с общую тетрадку. В складе этом можно было держать и запас перышек в бумажке, и проволоку тонкую в моточке, и даже что-нибудь еще более ценное, потому что снаружи щель затыкалась обломком покрашенной голубым штукатурки от этой же стены, так что фиг с два догадаешься, что здесь склад.
– Вчера папка матери рассказывал ночью, – шептал Киреев, глядя прямо перед собой и не шевеля губами, так что Фаина с ее Среднерусской возвышенностью никак не могла ни услышать, ни увидеть ничего, – сначала пыхтели, мне надоело слушать, я и заснул, а потом папка стал рассказывать, я проснулся и все слушал… Про вас. Так все время и говорил: «От Салтыковых теперь подальше держись». Мать обещала мне сказать, чтоб я от тебя отсел, а утром Ольку ругать стала, чтоб посуду помыла, и про меня забыла, а я сразу решил тебе рассказать…
– Что рассказать? – Мишка заорал шепотом, так же неподвижно глядя перед собой. – Что рассказать, что ты брешешь все, Кирей? Чего это твой отец ночью про нас говорить стал?
– А того… – Киреев быстро смахнул соплю, вытер руку об стенку и незаметно для себя зашептал громче, так что с третьей парты оглянулась Инка Оганян, Толькина сестра, а Фаина замолчала про каналы и истоки и посмотрела на Киреева с Мишкой, и Киреев сразу заткнулся и сделал внимательное лицо, но, переждав минуту, продолжал еле слышно: – Того, что дядя Коля Носов сдал отцу секретное письмо, а отец его прочел, а в письме написано, что вы, Салтыковы, еврейские шпионы, особенно мать, а вы не заявили про это дяде Коле Носову, поэтому скоро вам будет амбец, а тебя, наверное, отправят в малолетнюю колонию…
В Мишкиной голове все взорвалось и понеслось с криком, как иногда бывало, когда он сидел в комнате один, ел рафинад и учил уроки или просто читал книжку, а в голове начинался крик, как будто там была целая толпа, и все чего-то кричали, не поймешь что, и Мишка не мог этого выносить, вскакивал и начинал бегать по комнате, крик понемногу стихал, но сейчас Мишка не мог встать и начать бегать, он только незаметно под партой пнул Киреева ногой.
– Быстро говори все, Кирей, – прошептал Мишка страшным шепотом, уже не обращая внимания на Фаину, – а то на перемене я тебе так навешаю! Говори…
Однако ничего сказать Киреев уже не успел, потому что ударил электрический звонок и Фаина, так и не успев закончить про то, откуда вытекает Волга, пошла быстро из класса, едва не забыв журнал, держась одной рукой за толстый живот, а другой, с платком, зажимая рот. Все, конечно, тут же повскакали, начали драться и кидаться чем попало, постепенно выпираясь из класса под крики дежурных, потому что наступила большая перемена и из класса всем положено было выйти.
Но Мишка с Киреевым послали дежурных подальше да еще пригрозили, если будут залупаться, мел в чернила сунуть, и остались в классе. Дежурные принесли из девчачьей уборной ведро коричневой воды, заперли дверь изнутри, косо заложив ножку учительского стула в ручку, и принялись возить по полу большой тяжелой тряпкой на палке. А Мишка с Киреевым сели на крышку парты, чтобы не мешать уборке, и тут уж Киреев дошептал Мишке всё.
Он признался, что все слова, конечно, не расслышал, но отец часто повторял фамилию Салтыковых и слово «еврей», потом Киреев услышал целую фразу и запомнил ее дословно, фраза была такая: «Кольке Носову прислали письмо, а он, пока не решил, бумагу мне под номером сдал». Потом Киреев отец опять говорил тихо и неразборчиво, только было слышно про какого-то Кузьму, который не то уже что-то сжег, не то собирается сжечь, из чего Киреев сделал вывод, что Кузьмины, дочь которых Виолетка, или просто Ветка, Кузьмина училась в шестом «Б» и была известна своими огромными даже для десятиклассницы буферами, за которые ее таскали все, кому не лень, а она только улыбалась, как дура, эти Кузьмины тоже евреи и шпионы, а может, и диверсанты, раз собираются сжечь, скорей всего, большой штаб, желтый трехэтажный дом с белыми колоннами и двумя солдатами с автоматами «ака» у входа, стоявший на центральной площади городка, напротив проходной завода, а откуда Киреев вообще взял про шпионов, он не знал, но был уверен, что речь идет именно о настоящем шпионстве, потому что все знали, что майор дядя Коля Носов, высокий, очень худой и бледный мужчина со светлыми длинными волосами, вылезающими сзади из-под фуражки, именно ловит шпионов, которых засылают американцы, а они стараются пройти на завод или в большой штаб и что-нибудь там разведать или просто взорвать, и раз дядя Коля Носов заинтересовался Салтыковыми и Кузьмиными, то они, конечно, шпионы, только не американские, а еврейские, наверное, потому, что отец Киреева все время говорил о евреях и несколько раз вспомнил Мишкину мать, которая, конечно, точно еврейка, а дома, когда читает или шьет, даже надевает очки.
– Я бы на твоем месте, Мишка, – вздохнул Киреев, рассказав все, – из дому бы лучше убежал, а потом тебя нашла бы милиция и отдали бы в суворовское или даже в нахимовское.
Ответить на это Мишка ничего не успел, потому что от бесконечных дерганий из дверной ручки с грохотом вылетел стул, дверь распахнулась, с ревом в класс влетел весь шестой «А», тут же загремел звонок, вошла Нина Семеновна и началась история. Несчастного Киреева, конечно, вызвали первым, он, все еще переживавший свой рассказ, то, что успел услышать от Мишки, забыл начисто, Болотникова назвал Болотиным, Булавина вообще не вспомнил и получил пару, потом Надька все отбубнила, как по книжке, и получила «петуха», потом Нина Семеновна стала рассказывать про Юрьев день, и Мишка как-то отвлекся от ужасных новостей. А после короткой перемены Нина Семеновна не ушла и начался классный час на тему «Кем быть», и Мишка совсем забыл о рассказе Киреева, потому что, пока все вставали и говорили, что хотят быть летчиками, врачами и инженерами по танкам, он задумался, кем действительно стоит быть.
Конечно, ему очень нравилась морская черная, а особенно летняя белая форма, в которой он видел морских офицеров, когда летом они всей семьей ездили отдыхать в Сочи. Отец жил в военном санатории, они с матерью снимали комнату у сестры-хозяйки, мать ходила в цветастом крепдешиновом комбинезоне и босоножках на пробке, Мишка – в черных трусах, чешках с обвязанными вокруг щиколоток шнурками и в тюбетейке, отец – в казенной белой полотняной куртке и белой панаме, а вечером на набережной и в ресторане «Украина», куда они иногда ходили обедать вместе с отцом, прогуливавшим санаторский обед, они видели морских офицеров в белых кителях со стоячими воротниками, белых наглаженных брюках, белых парусиновых туфлях, начищенных зубным порошком до легкой голубизны, кортики болтались параллельно земле у белых брючных колен, крабы и дубовые листья вспыхивали темным золотом на фуражке в белом чехле. И Мишка обмирал.
Но возвращались из Сочи домой, начиналась школа, шли дожди, и Мишка понимал, что, конечно, моряком ему ни за что не стать. Потому что попасть в нахимовское шанс был только у сирот или генеральских сыновей, минимум полковничьих, а просто после школы в высшее училище тем более не поступишь.
Поэтому Мишка все чаще задумывался о другой судьбе. В этих мыслях он видел себя обязательно в Москве, идущим домой с работы.
На Мишке голубовато-серый костюм из материи со странным названием «метро», непонятно, какое отношение имеющей к настоящему метро, которое Мишка тоже вспоминал, бронзовых людей на «Площади Революции» и стальные рифленые колонны на «Маяковской», но все перебивала картинка возвращения взрослого Мишки с работы домой. Голубоватый костюм просторно болтается на худом и высоком Мишке, брюки сминаются мягкими складками, ложась на серые летние туфли с желтым рантом, а на голове косо сидит серая мягкая шляпа из тонкого легкого фетра, с голубой широкой репсовой лентой. В одной руке Мишка несет большой портфель из свиной желтой кожи, тисненной под крокодила, застегнутый большим квадратным медным замком, перетянутый ремнями, с прибитым близко к верхнему краю крышки косым зеленовато-серебряным ромбиком с загнутым уголком, а на ромбике выцарапано гравёром «Михаилу Леонидовичу Салтыкову от друзей и сослуживцев». Портфель раздутый и тяжелый, поэтому Мишка идет, перекосившись в одну сторону и слегка даже балансируя другой рукой. А в другой руке он несет квадратную картонную коробку с нарисованной розой на крышке, перевязанную бумажным шпагатом крест-накрест, дно коробки, которую Мишка держит, просунув указательный палец под перекрестие шпагата, слегка провисает. В портфеле большие книги с шершавыми цветными картинками под папиросной бумагой, узкие длинные деревянные коробочки с мелкими стальными отвертками и молоточками – инструментом, а еще конфеты «Ассорти» с оленем, бутылка вина «Шато-икем» и в двух слоях коричневой бумаги, из которых уже и верхний начинает промасливаться, языковая колбаса с шашечками печенки и жира на срезе, от которой уже весь портфель полон елисеевским запахом. А в коробке лежит мороженый торт.
И сейчас Мишка придет домой – свернет в переулок, а мальчик будет смотреть сверху, осторожно, пока никто из взрослых не видит, высунувшись в открытое окно пятого этажа, а Мишка войдет в сырой подъезд и начнет, немного пыхтя, подниматься по лестнице, потому что на четвертом кто-то бросил лифт незакрытым, а наверху уже щелкнет замок и откроется дверь, и мальчик будет его ждать на площадке, возьмет из руки торт и понесет в столовую, поставит посреди стола, и начнется вечер.
Так все уже было, когда отец после войны учился в академии и они жили в семье дядьки, материного брата дяди Пети. Дядя Петя возвращался с работы, шел пешком с Арбата, делая крюк через Горького, пересекал Тверские-Ямские и входил в их переулок, а Мишка ждал его, стоя вопреки строжайшим запретам матери и тети Ады на стуле и осторожно выглядывая из открытого окна.
И теперь Мишка хотел быть дядей Петей, на которого, как считала мать, он был и похож, а особенно стал похож теперь, за лето перед шестым классом вытянувшись и начав поэтому сутулиться.
Кем дядя Петя работает, Мишка точно не знал, только слышал, что он заведующий, но это и не имело значения, потому что Мишка не каким-то заведующим хотел быть, а просто идти домой с работы в голубовато-сером костюме и нести мороженый торт.
Конечно, Мишка понимал, что лучше было бы, если уж не получится моряком, стать летчиком, летать именно на реактивном самолете с отведенными назад острыми крыльями, получая за каждый полет здоровенный кусок весового шоколада, носить в петлицах маленькие золотые пропеллеры, зимой надевать короткую кожаную куртку с большим меховым воротником и с гордой усмешкой повторять шутку «где начинается авиация, там кончается порядок». Или, на худой конец, ехать где-нибудь на танке Т-34 или даже KB, вылезши по пояс из люка, сверкая грязным лицом из-под шлема с валиками и глядя сверху, как медленно ходит из стороны в сторону ствол пушки, жмутся подальше от его наезжающего черного жерла какие-то знакомые мальчишки на тротуарах и бледнеет Нина Семеновна, вспоминая, как ставила Мишке четверки и даже трояки со словами «кому много дано, с того много и спросится, а кому легко дается, тому надо больше трудиться». Конечно, любая из этих профессий была бы тоже хороша, но очки, очки маячили перед нерезким Мишкиным взором, и он, мечтая, не переставал помнить про свою близорукость, черт бы ее побрал, и все чаще вспоминал про костюм из ткани «метро» и мороженый торт.
При этом про самого дядю Петю он почти не вспоминал, как и про тетю Аду, и про двоюродную сестру Марту, которую он, хотя она была старше и уже на следующий год должна была закончить с золотой медалью – в этом никто не сомневался – десятый класс, дразнил «кузей», потому что кузина, и «мартышкой», потому что Марта, но она не обижалась и иногда брала его с собой гулять, они шли по улице Горького к центру, и все оборачивались вслед. Мишка знал, что это означает: про Марту дома все, когда ее не было, говорили «красавица», хотя сам Мишка не понимал, что красивого в ее огромных черных глазах, вздернутом носе с чуть приплюснутым, как ежиный пятачок, кончиком и высокой, тонкой, все время как бы колеблющейся, словно в окружающем ее жарком мареве, фигуре – ростом она была почти с Мишкиного отца. Они шли к центру и сворачивали в переулок направо, где ТЮЗ, и переулками выходили к большому дому недалеко от пруда, там Марта отпускала Мишку на час поиграть во дворе с местными мальчишками, а сама скрывалась на этот час в темном и прохладном подъезде, и лифт немедленно начинал двигаться вверх в стеклянной, пристроенной к стене снаружи шахте, останавливался на последнем этаже. Никто с Мишкой, конечно, не играл, хорошо хоть, что не набили ни разу, «пусть сеструху ждет, она к Робке пришла». Мишка сидел в углу двора, за деревянным ларем, и наводил солнце через складную американскую увеличилку, подаренную дядей Петей, на щепку, и на щепке появлялся черный выжженный червячок «Миша». Потом, часа через полтора, Марта выбегала из подъезда, на мгновение прижимала Мишкину голову к огненно горячему через платье бедру, и они бегом неслись домой, и по дороге Марта напоминала ему, что ходили они в зоопарк, куда однажды она Мишку действительно водила. Дома уже был крик, приятно пахло валерьяновыми каплями, тетя Ада уже трижды бегала к «Белорусскому» метро встречать, «куда тебя черт носил с ребенком», кричала она, а однажды крик поднялся совсем ужасный, дядя Петя как раз был почему-то днем дома, Мишку мать увела в другую комнату, а из дядиного кабинета, где кричали, донеслось несколько раз «этот Роберт», и Мишка почему-то вдруг сообразил, что тот Робка – это знаменитый футболист Роберт Колотилин из «Торпедо», вот кто, но тут раздались почти одновременно резкий шлепок и короткий вскрик, и Марта вылетела из кабинета с наливающимися красным пятнами на правой щеке, пронеслась в переднюю и хлопнула дверью так, что зашуршала по косяку штукатурка, а дядя Петя в кабинете уже кричал в телефон адрес, и через полчаса к тете Аде приехала карета «скорой помощи», тетя лежала на большом кожаном диване в столовой, а на ее лбу лежало мокрое полотенце, и врач перетягивал ее руку черным резиновым шнуром.
Случилось это недавно, прошедшим летом, когда по дороге из Сочи они опять останавливались в Москве, но теперь Мишка об этом вспоминал нечасто, а когда в последний раз вспомнил и спросил мать, поедут ли они и на следующее лето «к Малкиным на Третью Ямскую», это были фамилия и адрес дяди Пети, тети Ады и Марты, так их всегда и называли в Мишкиной семье, мать посмотрела на Мишку, помолчала, а потом, так ничего и не ответив, отвернулась и пошла на кухню. Мишка пошел за ней следом и увидел, что она стоит у плиты, внимательно смотрит в кастрюлю с варящимся фасолевым супом, мешает его половником, а в суп при этом капают ее слезы.
Казалось бы, после этого Мишка должен был заинтересоваться, почему мать плачет при упоминании Малкиных, попробовать узнать что-нибудь у отца или какими-нибудь окольными путями выведать все же у матери, но он почему-то, наоборот, про них как-то забыл, хотя себя в дядином костюме и с мороженым тортом представлял все чаще. А вокруг Малкиных в его голове как будто возник волшебный круг или их прикрыла шапка-невидимка, и он совсем не вспоминал эту семью, где прожил столько времени – два года, пока отец заканчивал ускоренный курс артиллерийской академии имени Дзержинского, после которой не стал, к Мишкиному удивлению, никаким артиллеристом, а стал носить на погонах и петлицах инженерские молоточки, и еще каждое лето по дороге в Сочи или на Рижское взморье, или на обратном пути недели по две, поскольку отпуск у отца был большой, сорок пять суток без дороги. Но теперь и дядя Петя, и тетя Ада, и Марта из Мишкиных мыслей совершенно исчезли. И он не удивлялся, что они исчезли и из разговоров матери с отцом, и из почтового ящика, из которого раньше время от времени вынималось письмо, на котором высокими и узкими буквами тетиного почерка был написан странный адрес: «Москва-350, ул. Маркса, д.12, кв.5, Салтыковым», – хотя село, возле которого был выстроен лагерь с заводом и военным городком при нем, где они жили, называлось Заячья Падь и до Москвы от него было три тысячи километров. Но Мишка уже давно таким вещам не удивлялся, привыкнув к словам «военная тайна» едва ли не с тех пор, как сам начал говорить.
Кем же я буду, подумал Мишка, прогоняя видение человека в очках и просторном костюме, с мороженым тортом в одной руке и портфелем в другой, я же не хочу быть заведующим (но и тут как-то не вспомнив дядю Петю, который именно заведующим и был), кем же я хочу быть?
И, конечно, тут его класрук Нина Семеновна и подняла.
– Вот Салтыков там мечтает, пусть он теперь выступит на тему классного часа. Какая тема, Салтыков? Встань, я к тебе обращаюсь.
Мишка тянул время, с грохотом откидывал крышку парты, которая ему была действительно очень мала, выпрастывался из нее…
– Тема классного часа, Нина Семенна, – начал он полным ответом, как и положено отличнику, – называется… называется… «Кем быть», правильно?
Нина Семеновна молчала, глядя на Мишку. Он знал, что классный руководитель его не любит, хотя он был единственный в классе отличник-мальчишка. Но Нина Семеновна считала, что ему все слишком легко дается, а таких людей она не любила вообще, – не только учеников, но и взрослых. Она закончила учительский четырехлетний институт, много лет учила младшие классы, потом заочно выучилась на историка в областном педагогическом и не уважала тех, кому все доставалось сразу. Она и замуж за старшину-сверхсрочника из хозроты вышла только пять лет назад, детей у них не было, и квартиру в городке они не получили, а снимали полдома в селе и держали поросенка и курей. И теперь Нина Семеновна молчала, глядя на Мишку, а он вспоминал, как однажды историчка разговаривала с матерью, встретив ее в воскресенье по дороге в продуктовый, Мишка отирался рядом с пустой пока материной клеенчатой кошелкой в руках, а мать вдруг, уж Мишка не помнил, к чему, сказала учительнице своим обычным удивленным тоном: «Но, Нина Семеновна, позвольте, у Ключевского написано…» – и Нина Семеновна сразу перебила ее: «А в наших вузах историю не по Ключевскому учат», – повернулась и пошла к себе в село, под гору, неся в каждой руке по сплетенной из цветной проволочной изоляции авоське с хлебными буханками.
– На вопрос, кем быть, Нина Семеновна, – продолжил Мишка напирать на полноту предложений, – советские школьники отвечают, помня, что любой труд в нашей стране почетен, Нина Семеновна, и еще что надо быть, а не казаться. Можно стать моряком, летчиком, танкистом… инженером…
Тут он запнулся и замолчал, потому что не мог вспомнить больше ни одной профессии, хоть убей, а Нина Семеновна все молчала и смотрела. «Гидро!» – прошипела подсказку, не оборачиваясь, Надька. Нина, как всегда в школе, на Мишку не смотрела и делала вид, что и не слушает.
– …строителем гидроэлектростанций, – сообразил Мишка и уже легче поехал дальше, – гидромелиоратором…
– А ты знаешь, – перебила его Нина Семеновна, – чем, например, занимается гидро… мелератор?
– Гидромелиоратор, – радостно затарахтел Мишка, повторив и тем невольно подчеркнув правильное произношение, довольный, что беседа, кажется, идет к концу, – осушивает… осушает болота, чтобы на этом месте построить дома, или, допустим, посадить какие-нибудь полезные растения…
– Хорошо, – опять перебила его Нина Семеновна, – а ты сам кем хочешь быть?
Что произошло с Мишкой, он и сам потом понять не мог, но голубовато-серый костюм и мороженый торт мгновенно мелькнули перед его глазами, и он ляпнул – «как в лужу пёрнул», сказал после уроков Киреев.
– Заведующим, – ляпнул Мишка, замолчал на секунду и уже в хохоте, в визгах «следующий – кричит заведующий!», в грохоте и кошмаре поправился, уточнил: – Ну, этим… завпроизводством, кажется, – вспомнив, к счастью, как называются отцовские подчиненные лейтенанты.
Но было, конечно, уже поздно. Класс бушевал. Володька Сарайкин под шумок лапал Инку Оганян, и она почти не отбивалась, Толька Оганян с Генкой Бойко дрались книжками, и сухие щелчки переплетов по головам прорывались сквозь общий шум, Надька уже, как обычно, плакала, а Нина сидела, наклонив голову и зажав уши руками. Звонок ничего не прекратил – наоборот, бесчинство возросло и достигло невообразимого. Вовка Сарайкин швырнул в доску мелом, который раскрошился и засыпал все белыми обломками, дружок и вечный соперник Сарайкина спортсмен Эдька Осовцов сделал стойку на руках и так, вверх ногами, вышел на середину класса, а Нина Семеновна незаметно исчезла, как она всегда исчезала, когда класс начинал чуметь, чтобы вернуться с директором Романом Михайловичем и собрать дневники для вызова родителей, – словом, ужас.
В этом ужасе Мишка пробрался к дверям и сбежал.
А через минуту, сам не помня как, оказался на школьном дворе, за недостроенной теплицей, с раскрытым портфелем в руке. Верный Киреев был рядом. Они достали из ниши в тепличной опоре, выдвинув легко выдвинувшийся кирпич, мятую сиреневую пачку тонких папирос «Любительские» и спички в обчирканной коробке и закурили. Курили молча, пока не закружилась голова и не стало все безразлично. Потом Киреев, угадав, заговорил о главном.
– Отец раза три сказал, что Кузьма палит, а какой Кузьма, не сказал, а у нас же других нет, только Кузьмины, – рассуждал Киреев, и Мишка не мог с ним не согласиться, – значит, Кузьмины – тоже шпионы, скажешь, нет?
Мишка оценил сочувствие Киреева, ведь, говоря сейчас о Кузьминых, он хотел утешить Мишу тем, что не у одного того родители шпионы. Мишка проглотил дым, откашлялся и продышался.
– Мать не шпионка, – сказал он, и слезы поползли по щекам, при Кирееве он даже не очень стеснялся, и Киреев, следует отдать ему должное, сделал вид, что не заметил Мишкиных слез. – Она книги подписные в военторге книжном покупает, а другие в библиотеке берет, никакие они не шпионские, я тоже читаю, там ничего шпионского нет…
И тут он замолчал, потому что потерял уверенность в том, что говорил. Он подумал, что вполне могли некоторые из читанных матерью, да и им самим книг оказаться шпионскими, а почему – это не сразу и догадаешься, на то и шпионство, чтобы дурить таких утративших бдительность, как мать и он сам. Тем более что по радио говорили про утративших бдительность, среди которых были, очевидно, взрослые и умные люди, профессора и даже орденоносцы, а они уж, наверное, раньше были побдительней Мишки с матерью – и то утратили.
От курения кружилась голова и во рту сделалось противно, Мишка и Киреев долго плевались густыми длинными слюнями, сгибаясь пополам и мотая головами, чтобы липкую слюнявую вожжу оборвать. Потом сели рядом на посеревшие доски, которые зачем-то были сложены штабелем в недостроенной теплице, и задумались.
– Отец еще чего-то говорил о вас, – сказал Киреев, подумав, – только совсем тихо, и я не понял. Чего-то про фамилию… Вроде у вас фамилия Салтыковы не настоящая, что ли, а настоящая – шпионская и еврейская. И опять чего-то про Кузьму, только как будто не про Кузьминых, а как будто про вас…
Мишка слушал его уже невнимательно, понимая, что и половины того, что Киреев сейчас рассказывает, он не подслушал, а сам придумал по обрывкам слов, шелестевших в душной темноте общей киреевской спальни, и по книге «Тайна профессора Бураго», которую сам Мишка привез из Москвы, а потом давал всему классу читать, в том числе и Кирееву. Книга эта выходила тонкими брошюрками-выпусками, последних выпусков у Мишки не было, потому что то ли Марта их потеряла, то ли они вообще так и не вышли, поэтому никто не знал точно, чем кончились поиски шпиона, который все подбирался к профессору Бураго, но там все как раз было: и профессор, утративший бдительность, вроде тех, о которых говорили по радио, и шпион с разными фамилиями, и опытный следователь МГБ Найденов, который должен был обязательно найти шпиона по шраму от трехгранного штыка на спине.
И тут Мишке опять стало плохо, потому что он вспомнил шрам на отцовской спине, сантиметров на пять ниже правой лопатки, и хотя шрам был не трехгранный, а узкий и кривой, и было известно, что он остался от осколка, попавшего в отца, когда немцы бомбили его инженерную роту, строившую под Житомиром дорогу для танков, и отец потом лежал в госпитале в Калинине, а мать ездила его навещать, а Мишку оставляли Малкиным, и его нянчила Марта, сама еще маленькая, и отец иногда вспоминал Калинин и приезд матери, и всегда почему-то с усмешкой, несмотря на все это, Мишке стало плохо, как будто он опять накурился, затошнило и закружилась голова, потому что просто так все не могло совпасть: шрам, другая фамилия, материна любовь к чтению книг, среди которых вполне могли быть шпионские или, во всяком случае, враждебно настроенные… И Мишка почему-то вспомнил «Дон Кихота», изданного до революции с твердыми знаками и другими старыми буквами.
– Пошли, Кирей, – сказал он, называя Киреева в благодарность за предупреждение и сочувствие не полной фамилией, вставая с досок и вытирая жестким рукавом пальто нос и глаза. Жизнь, еще утром, до встречи с Киреевым, такая нормальная и даже, можно сказать, мировая, рухнула и придавила Мишкины плечи, так что он сгорбился и тащил так и не закрытый портфель почти по земле, а веревку, стягивающую мешок со сменкой, перекинул через плечо, как бурлак. – Пошли, Кирей, уроки давно кончились, меня мать искать будет.
Действительно, школьный двор был пуст, а из окон доносился бубнеж – шли уроки второй смены. Приятели вышли из двора на скучную и такую же пустую улицу. Холодный ветер конца октября нес свернувшиеся и уже потемневшие листья, опавшие с кленов и акаций, на центральной улице Ленина эти листья сбивались в мокрые грязные комки в маленьких лужах у тротуарного бордюра. Шли молча, молча же пинали попавшийся по дороге небольшой обрезок автомобильной покрышки, очевидно, кем-то из сельских использовавшийся в качестве привязанной веревкой к прохудившейся обуви галоши, но потерянный. Молча прошли квартал финских домов, где жил Киреев, молча подошли к Мишкиному двору. И во дворе было пусто. Ледяное октябрьское солнце и прозрачное, но с чернотой предснежное небо освещали пустой двор, пожухшие еще в августовскую жару веники и ряд сараев, за которым был их давно заброшенный штаб.
– Пойдем? – предложил Киреев, имея в виду пойти сидеть в штабе.
Мишка так и знал, что он предложит, и твердо решил сразу отказаться. Дело было не только в том, что мать действительно могла начать искать Мишку и даже пойти в школу. С некоторых пор Мишка вообще избегал сидеть в штабе с Киреевым, потому там и началось запустение, высыпались некоторые кирпичи из стен, а крыша из упаковки покосилась и съехала косо набок. Сначала, сразу после каникул, когда Мишка вернулся из Сочи и Москвы, они с Киреевым продолжали, как весной, сидеть в штабе, но вскоре произошло то, из-за чего теперь Мишка не только в штабе, но и в недостроенной теплице за школой оставаться вдвоем с Киреевым избегал, за исключением таких случаев, как сегодня, когда после уроков надо было поговорить в теплице, но в штаб идти Мишка все равно не хотел. Потому что помнил, как однажды в сентябре Киреев в тесноте штаба как-то извернулся, пихнул Мишку плечом и, мерно двигаясь всем телом и дергая напряженной – Мишка почувствовал боком – левой рукой, показал покрасневшими светлыми глазами вниз: «Смотри, Миха…» Последствия увиденного тогда Мишкой были ужасными, о них ни в коем случае нельзя было думать днем, а ночью не думать было невозможно. Мишка за это Киреева почти возненавидел, но потом прошло, потому что дружили они давно и Мишка к Кирееву привык, ничего не поделаешь, да и не был во всем этом один Киреев виноват, это Мишка в глубине души признавал, и они продолжали сидеть за одной партой и ходить вместе в школу и обратно, но уж только не в штаб!
– Никуда я не пойду, Кирей, – сказал Мишка, – потому что мать…
И тут же ее и увидел.
Мать каким-то образом мгновенно оказалась стоящей посереди двора, между сараями и трансформаторной будкой, и вид у нее, конечно, был такой, что Мишке сразу стало стыдно. Она была без очков, поэтому щурилась еще более презрительно, чем обычно. Нарядилась же она, как всегда, на смех городку: белые сухумские босоножки на пробке, черные чулки с пяткой, жемчужно-серое крепдешиновое платье в мелкую белую веточку с юбкой-солнцем почти до щиколотки и серый жакет-букле три четверти с широкими рукавами – поверх летнего платья для тепла. По своей близорукости мальчиков она, естественно, не видела, но то ли тени какие-то мелькнули перед ее вишнево-карими круглыми глазами, то ли почувствовала – мать полувопросительно окликнула «Мишенька?» и еще сильнее прищурилась.
И на Мишку снова все накатило – еврейка, шпионы, другая фамилия и малолетняя колония, и, уже слизывая покатившиеся снова рядом с носом слезы, он побежал к матери.