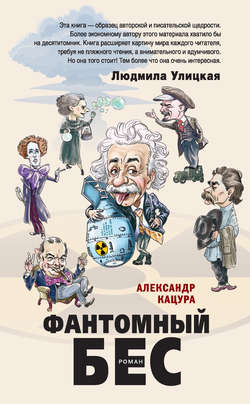Читать книгу Фантомный бес - Александр Кацура - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Война первая
Часть вторая. 1914–1917
Выстрел в Сараево
ОглавлениеНаследником Австро-Венгерского престола был весьма пожилой господин. Это был тот самый «австрийский нахал» (по выражению великого князя Кирилла), который на празднике в Лейпциге оберегал императора Вильгельма от членов русской миссии. Тот самый, кто не хотел отпускать на вольную волю попавших в состав Австро-Венгрии южных славян – хорватов, боснийцев, словенцев и прочих. Правда, он вовсе не собирался держать их в черном теле. Напротив, у него были красивые планы – объединить их в относительно независимую общность, в некое южное королевство под единой славянской короной. Таким образом, к австрийской и венгерской коронам добавилась бы третья и возникла бы, по мысли эрцгерцога, чудесная империя трех корон. Австро-Венгро-Славия. Что-то в этом роде. Разве это плохо? Голубой Дунай, Влтава, Тиса, Сава, вальсы Штрауса звучат над прекрасными землями. Тяжелые кисти винограда зреют. И все рады друг другу, кругом улыбки. А венская оперетта! А снежные Альпы! Сверкающие лыжные склоны Инсбрука! А готические замки в горах, похожие на сказку! А город Моцарта Зальцбург! А сказочная Прага с ее средневековыми легендами! Да кому же захочется бежать из этой райской империи, лучшей на свете?
А вот южным славянам бежать хочется. Особенно сербским офицерам и студентам, мечтающим о великой Сербии. Странные, озлобленные люди. Это они создали суровую террористическую организацию «Черная рука». И кажется им, что лучший путь – это убийство крупных австрийских чиновников и тех губернаторов, которые под руку попадутся. А если под «черную», так вообще…
И года не прошло, как Фердинанду в Храме русской славы пели многолетие. Увы, пение в храме не всегда помогает. Зачем-то пристрелили заодно и его жену Софию, чешскую графиню, довольно скромно одетую даму, мало в чем повинную. По австрийским законам чешские титулы были провинциально-второстепенны, поэтому права на герцогский титул она не имела и в браке оставалась графиней; более того, брак этот расценивался как морганатический, и их дети не считались наследниками Австро-Венгерской короны. Но супруги очень любили своих трех детей, пусть они даже не принцы и не принцессы. Когда эрцгерцог задумал нанести дружественный визит в Сараево, графиня заявила, что опасается за его жизнь и непременно поедет с ним. Опасалась она не зря. Пожилые супруги ехали в небольшом открытом автомобиле, который еле полз по узеньким улицам боснийской столицы. Их радостно приветствовали местные жители. Было много цветов. Боснийцы к австрийцам относились неплохо. К медленно катящейся машине вплотную приблизился двадцатилетний студент из Сербии с бельгийским пистолетом в руке. Стрелять его учили все в той же «Черной руке». Первым выстрелом он перешиб яремную вену герцогу, вторая пуля угодила графине в живот. Герцог успел повернуться к жене и сказать: «Софи, прошу тебя, не умирай! Ради детей!» И все же графиня умерла первой. А герцог лишь через десять минут. На календаре шел 28-й день июня. Это был день двадцатилетия свадьбы Софии и Фердинанда.
Но если бы не этих знаменитых особ, то непременно убили бы еще кого-нибудь. Подсознательно Европа тянулась к потрясениям и столкновениям. Много лет ведущие державы муштровали солдат, упорно занимались вооружением. Для чего, спрашивается?
Выходит так, что выстрел не мог не грянуть.
Не студент Гаврило с пистолетом, так кто-нибудь иной. Слишком много стран, народов, генералов и государей подобного выстрела ожидали. Прекрасный повод для войны. Зря, что ли, готовились? Понаделали столько ружей и пушек. Бронированных кораблей и даже подводных лодок. Куда прикажете теперь все это деть? Возможно ли теперь не проверить их на деле?
Удивительно, но все участники будущей схватки надеялись на выигрыш. Один размышлял о расширении границ, второй мечтал продемонстрировать свою необоримую военную силу, третий стремился показать свою твердость и непоколебимость. О поражении не думал никто. Впрочем, так было почти всегда в истории войн.
Австрияки предъявили ультиматум маленькой гордой Сербии. Один из пунктов предусматривал участие австрийских военных в расследовании убийства не только на боснийской, но и на сербской земле, поскольку нити заговора вели в Сербию. Сербское правительство, посчитав это национальным унижением, этот пункт отклонило. Австрийцы стали подтягивать свои полки. Сербия начала мобилизацию своих войск. Столкновение ожидалось со дня на день. На границе уже раздались отдельные выстрелы. А за Австрией стояла мрачная, ощетинившаяся Германия. «Я безоговорочно поддержу австрийских братьев против сербского варварства», – заявил германский кайзер.
Николай II попытался спасти мир в Европе. 29 июля он отправил Вильгельму II телеграмму с предложением передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию, в международный третейский суд в Гааге (который, между прочим, был основан в последний год ушедшего века как раз по инициативе русского царя). Вильгельм II на эту телеграмму не ответил. Стало ясно, что он собрался воевать.
Разве мог русский царь не вступиться? Мог ли бросить братьев-славян? А мог ли выставить великую Россию слабой, чрезмерно осторожной, чуть ли не трусливой? О многократных предсказаниях крови и гибели он в тот момент вспоминать не пожелал. Военная честь дороже. О напророченном падении трона и конце династии он тоже не вспомнил. Быть может, он стал политическим и военным реалистом, а всякого рода мистику загнал в далекое подсознание? Так или нет, но он объявил всеобщую мобилизацию. И поначалу полагал эту меру всего лишь предупредительной угрозой. Но Германия оценила российскую мобилизацию как наглый вызов.
«Отмените мобилизацию! – сурово потребовал германский император. – Немедленно! Иначе война».
– Ну, уж нет! – пылко воскликнул мягкий русский царь. – Никакому давлению Россия не поддается!
И все стремительно покатилось.
Вильгельм II был человек упрямый и жесткий. Даром слов он не бросал.
1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Утром следующего дня объявила войну России и Австрия.
В тот же день в Белом зале Зимнего дворца Николай II собрал всех членов императорской фамилии, министров, генералов, членов Государственного Совета и Думы. В огромный зал попало и множество офицеров. В 4 часа дня был прочитан манифест об объявлении войны, а затем начался молебен. Внимание всех было устремлено на царя и великого князя Николая Николаевича. Все уже знали, что великий князь будет назначен Верховным главнокомандующим. После молебна император негромко, но ясно и твердо произнес краткую речь. В последних словах он голос приподнял: «Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей». По толпе пробежала дрожь. Присутствующие, как один человек, опустились на колени. Когда они встали, раздалось громовое «ура». У многих по щекам текли слезы. Слезы воодушевления? Патриотического восторга? На деле никто, включая самих плачущих, еще не мог догадаться, что именно они оплакивают.
Начавшуюся войну в России сразу стали называть Германской. Ненависть к немцам взлетела до заоблачных высот. Россия вступилась за поруганную Сербию.
– Скажи мне, друг мой Ваня, – завела разговор Мария. – О каком таком сербском варварстве толкует Вильгельм? Неужто наши братья-сербы и вправду варвары?
– А то! – хмыкнул Иван. – Братья! Нашлись, не затерялись. Впрочем, мы в России еще большие варвары. Это мы с виду мирные и богобоязненные. Это до поры. Ну, не мы с тобою, натурально, не граф Закревский, твой дед, не граф Бенкендорф Александр Константинович, мой дядя, даже не профессор Вук Караджич, создавший новую сербскую азбуку на ихних Балканах… Эх, подобный список людей достойных довольно быстро оборвется. Их всегда было мало. Ничтожно мало. А вот миллионы мужиков, вчерашних холопов – кто они? Или ты не знаешь? Или не догадываешься? Дай им волю, они тут же перережут нас с тобою, а потом примутся резать друг друга. Мужики-с. Добра от них не жди. Как только волю почувствуют, так сразу белокожих дворяночек на гумно потащат. А нет – так нож в белы груди.
– Бр-р! Ты скажешь.
– Еще увидим.
Итак, Россия вступилась за поруганную Сербию. В тот момент никто во всей России не хотел задуматься о военной мощи врага, о холодной его расчетливости, о железной его организованности – и, наоборот, о вечной российской расхлябанности, о бездумной готовности принести бесчисленные жертвы, которых непременно потребует военная мясорубка, о потоках крови, о миллионах загубленных жизней. Молодые и старые, образованные и темные – все рвались в эту кровавую пучину, словно бы только в хлынувшем водопаде крови, страданий и доблести могли обрести и смысл, и счастье свое.
Впрочем, что миллионы? Зачем считать простых людей? Не для красивой ли смерти они родились? Ведь не небо ж коптить. Чего не отдашь за родину? За высший божественный смысл? Боже, царя храни…
А как все напряглось и зашевелилось в Германии.
Железными реками потекли вышколенные войска. «Айн колонн марширт, цвай колонн марширт…» Мура, собирая чемоданы, задумчиво смотрела на эти колонны из своего окна.
Ивану и Марии по всем канонам предстояло покинуть рейх и вернуться в Петербург, который вскоре был объявлен Петроградом – из лучших патриотических чувств, ничего немецкого в звучании. Ивана Александровича, имевшего чин штаб-ротмистра, определили служить в военной цензуре, но его эта деятельность тяготила. Он мечтал о блеске и безмятежности дипломатической службы в какой-нибудь из приличных европейских столиц, достойной его вкуса и его взглядов на жизнь. Но приходилось тянуть лямку в этом полувоенном городе, в этом дурацком, мало кому нужном ведомстве. Мура окончила срочные медицинские курсы и отправилась работать медсестрой в военный госпиталь, который развернули не где-нибудь, а прямо в Зимнем дворце, часть которого превратилась в фабрику, где выделывали марлю, бинты и щипали корпию в пользу раненых. По моде того времени в госпиталях служило множество барышень из аристократических семей. Даже один из флигелей в Царском Селе был переоборудован под прием раненых солдат. Императрица Александра Федоровна со своими дочками Ольгой и Татьяной прошли обучение сестринскому делу у княжны Веры Гедройц, которая была профессиональным врачом, а затем ассистировали ей при операциях в качестве хирургических сестер. Супруга царя лично финансировала несколько санитарных поездов.
Муре в госпитале пришлось собрать характер в кулак. Надо было привыкать к бинтам, крови, стонам, потухшим или искательным взглядам раненых – в основном молоденьких солдат, корнетов и поручиков. Но она освоилась довольно быстро, научилась ловко бинтовать, прикладывать компрессы, ставить банки. А главное, она уловила важность теплой улыбки и добрых слов, часто столь необходимых страдающим людям. Поначалу раненых было не так уж много. Они охотно рассказывали про дела на фронте – как они ловко копали окопы, как стреляли, как наступали, как бежали от них эти противные и глупые австрияки и немцы. Частенько приукрашивали свои подвиги, это вызывало улыбку на соседних койках, а порою вся палата взрывалась смехом. Многие из выздоравливающих вновь рвались на войну. По крайней мере, на словах. А как оно было на деле, Мура не знала. Атмосфера в госпитале (если, конечно, привыкнуть к чужому страданию и даже к смерти) была весьма терпимой, врачи по отношению к медсестрам были любезны, а офицеры галантны. Опекал госпиталь генерал Мосолов, начальник канцелярии Министерства Двора. Этот красивый, статный человек был на редкость внимателен и добр ко всем. Муру он как-то быстро выделил, подходил и спрашивал, нет ли трудностей. У Муры их обычно не было, но пару раз она осмелилась задать вопросы более общего характера – о ходе войны, о судьбе страны. Он смотрел на нее с некоторым удивлением, но пускался в рассуждения охотно. Делал это он настолько вдумчиво и деликатно, что в итоге они даже слегка подружились. Во всяком случае, когда возникала необходимость в чем-либо, она легко шла к нему за советом и помощью.
Война с ненавистными германцами, начало которой народ принял с подъемом, затянулась. Раненых прибывало все больше, и лица их становились все более хмурыми. Рассказывать про свою войну они больше не стремились. Мура всякий раз с содроганием смотрела, как привозили человека вроде бы раненого, но целого, а уходил он на одной ноге с костылями.
Однако театры в Петрограде работали, рестораны были полны, магазины, впрочем, тоже. Несмотря на тяготы войны, Россия позволила себе такую роскошь – не ввела карточную систему (в то время как в Германии она была введена). Но прошло два томительных года, и все стало выглядеть куда мрачнее. 1915 год запомнился непрерывными поражениями и отступлением по всему фронту. Русские войска оставили Галицию и Польшу. Под угрозой оказалась Рига.
Где-то с весны 1916 года генерал Мосолов перестал появляться в госпитале. И не было его долго. Кто-то из врачей сказал Муре, что у генерала по горло и других дел, поважнее. И что будто бы он даже уезжал к самому царю, в его штабной поезд под Могилевом. Но вот прошел слух, что генерал приехал и в госпиталь заглядывал. Действительно, дня через два Мура издали в конце коридора мельком его увидела. Он ее тоже заметил и дружелюбно кивнул.
А еще через пару дней, во время ночного дежурства, он, стараясь ступать тихо, проходил мимо ее столика, на котором горел ночник. Увидев Муру, генерал притормозил, присел рядом и шепотом приветствовал ее. А потом замолчал, глядя куда-то в темень.
– Что с вами, Александр Александрович? – спросила Мура. – Вы устали?
Он повернулся к ней, на лице его мелькнула виноватая улыбка.
– Устал, – сказал он. – Трудный день был вчера.
– Здесь? В госпитале?
– Нет, – он грустно улыбнулся. – Здесь я, скорее, отдыхаю. Совсем в другом месте.
Мура промолчала.
– Хотите, поделюсь с вами? Только это не для передачи. Секрет. Идет?
– Да, конечно, – сказала Мура. – Разумеется.
– Я, Мария Игнатьевна, вчера весь день пил вино с одним человеком. Шесть бутылок мадеры.
– Зачем? – спросила Мура.
– Так надо было. Знаете с кем?
– Нет.
– С Распутиным.
– С кем? – поразилась Мура.
– Да, с Григорием Ефимовичем, «старцем» нашим.
– Почему? Зачем?
– Александр Федорович послал на переговоры.
– Трепов?
– Ну да, председатель Совета министров. Он, кстати, шурин мой.
– Но послал он вас к «старцу» не вино пить, а, как я понимаю, по делу.
– Еще по какому. Сам он Распутина терпеть не может и видеть его не желает. Но передвигать министров без одобрения «старца» он не может. Государь не даст согласия. А передвигать надо срочно. Нынешнее правительство недееспособно.
– Ничего себе! И как вам Распутин?
– Я умею с ним разговаривать. Меня он терпит. Однажды он сказал мне: «Знаю, что и ты враг мой. Но ты честный. И пьешь хорошо».
– И что, разговор вчера получился?
– Не очень. Но расстались мы со «старцем» по-доброму. Даже обнялись.
– Я бы не смогла, – Мура поежилась.
– Ну да, – усмехнулся генерал. – А вот иные фрейлины могут.
– Жуть! – прошептала Мура.
– Понимаете, Машенька, Распутин, как к нему ни относись, человек необычный. Вы слышали, как он недавно спас фрейлину Вырубову? Аннушку, общую нашу любимицу.
– Это когда поезд?..
– Да, да. Страшная была авария.
– Краем уха. Деталей я не знаю.
– Аннушка ехала в Царское Село. Встречные поезда столкнулись. Ужас! Вагоны были почти пустые, и пострадавших не так уж много. А вот Аннушка… Ее просто раздавило. Доктора сказали, выжить нельзя, и дали несколько часов.
– Бедняжка!
– Послали телеграмму Распутину. Он примчался мигом. Сел у постели умирающей и начал молиться.
– И?
– Аннушка задышала, открыла глаза. Доктора были в трансе. Не могли поверить. А Распутин сказал, что будет целехонька, только хромота останется. Ну да, ведь все кости были раздроблены.
– Чудо.
– Императрица так и сказала – «чудо»! И не слишком-то удивилась. Она к чудесам «старца» привыкла. Сколько раз он наследника спасал.
– Ужель это правда?
– То-то и оно. Он ведь у нас и провидец. И мужик при этом хитрющий. В который раз он повторяет, что жизнь Алексея Николаевича и все существование дома Романовых, да и вообще все благо России зависит от его молитв. Ежели помрет он, все пойдет прахом. Так и сказал. Как отрезал. Царица в это свято верит. И царь тоже. Самое странное, что и я начинаю в это верить.
– А вы знаете, Александр Александрович, – сказала вдруг Мура. – Я вас понимаю. Я и сама склонна верить чему-то такому. Ведь на меня порою тоже что-то налетает… неосознанное… темное… Чую, например, когда с кем-то плохо будет. Переживаю, дрожу… Но предсказывать не берусь. Боюсь. Наоборот, отгоняю, стараюсь забыть.