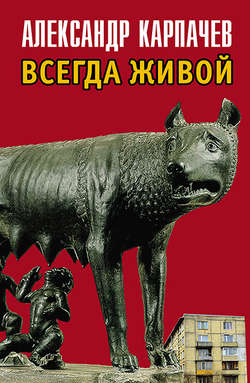Читать книгу Всегда живой - Александр Карпачев - Страница 7
Товарищ память
Оглавление– А что было потом? – спросила Фелиция, нежно касаясь кончиками пальцев углубления на виске.
– Очнулся через неделю, сначала не понял, кто я, где я. Было такое ощущение, что я только что родился. Но постепенно стал вспоминать, потом смог есть, ходить, в общем, оклемался где-то месяца через четыре.
– Хорошо, что все прошло без последствий, а то я видела людей с такими травмами, они натурально в животных превращаются, ничего не соображают, их в ямах держат, еду кидают, или вообще перестают следить, они куда-нибудь уходят и с концами.
– Да как тебе сказать – без последствий… – Марк задумался, говорить или не говорить. – С одной стороны, могло быть и хуже, я действительно выжил чудом, но напрочь забыл свое детство, юность, кто мои родители, где родился, где учился. Помню себя только с того момента, как оказался на службе, да и то не с самого начала…
– Так тебе что, не могли рассказать? – искренне удивилась Фелиция.
– Я не мог спрашивать, понимаешь, это трудно объяснить…
На самом деле ничего трудного не было, Марк просто боялся показать, что потерял память, боялся быть уволенным из армии в неизвестность. Деньги, земельный участок, пособие по инвалидности – он бы не умер с голода. Но он был не уверен не только в реальности того, что его окружает, он был не уверен в себе, не уверен в том, сможет ли принимать самостоятельные решения, разумно распоряжаться своей жизнью, в конце концов, сможет ли просто выжить, будучи предоставленным самому себе.
Тогда он был страшно напуган, ему казалось, что его на этом свете практически не осталось, он чувствовал себе книгой, из которой выдрали первые сто страниц. Он был тряпичной безвольной куклой, лежащей где-то на пыльной полке. Будто из него вынули все кости и теперь ему не на что опираться внутри себя и приходится искать опору вовне. Кукла оживала только тогда, когда ею начинали играть дети. Марк чувствовал, что живет только тогда, когда общается со своими солдатами, выполняет приказы, приказывает сам, подчиняется распорядку дня, участвует в одном большом общем деле.
Ему требовалось каждый день, каждый час, каждую минуту подтверждать свое существование, убеждаясь, что его по-прежнему зовут Марк, что он центурион пятидесятой центурии первого легиона, что он когда-то усмирял бунтующие рейнские легионы вместе с Германиком, что он когда-то спас бывшего консула и за это ему дали офицерское звание, что он сражался с немцами и был тяжело ранен, но выжил и по-прежнему в строю.
Придя в себя, Марк не сразу смог оценить ущерб от ранения. В голове стоял непрерывный шум, и какие-то голоса говорили на непонятном языке, а действительность открывалась постепенно, причем совершенно неравномерными порциями. Сначала была темнота, будто его поместили в глухой плотный кокон или завернули в одеяло. Он не чувствовал ни себя, ни мир вокруг – только темнота и тишина. Но потом из-за плотной преграды стали доносится звуки, проступали какие-то предметы, назначения которых Марк не понимал. Он очень удивился, опознав однажды в этом предмете руку, держащую чашку с водой. К этому моменту занавес, скрывший его от мира, был уже не так плотен, теперь сквозь него проникали и запахи, а звуки стали резче и четче, и он понял, что это называется словами, только он не знал, какие это слова, каково их значение. А потом он почувствовал свое тело, и пришла боль, и ничего не было, кроме боли.
А когда боль прошла, то он узнал, что все части, составляющие его тело, находятся на своих местах. Руки вроде работали, ноги тоже слушались, но вставать он не мог, первая робкая попытка принесла такую тошноту и головокружение, которые он не испытывал даже в самый жестокий шторм на море: кровать, пол и вообще весь мир при малейшем движении начинали скользить из-под него с такой скоростью, будто он падал с высоченной горы. Только на третий день ему удалось перевернуться на бок и зафиксировать себя в пространстве, уцепившись взглядом за столик.
Впервые захотелось есть. Он позвал медсестру, она принесла какую-то жидкую кашу, вкус которой он не ощутил, но понял, что рука с чашкой воды, впервые раздвинувшая занавес, была ее. Пока Марк ел, медсестра рассказала, что его несколько раз навещал Понтий Пилат и очень сильно беспокоился о нем, и уехал, хотя его срочно отзывали, только когда Марк пришел в сознание и смог с ним поговорить. Марк ничего этого не помнил, ни Пилата, ни разговора с ним, но об этом медсестре не сказал, пробурчав, что помнит, но смутно. Медсестра стала рассказывать, какой Пилат видный и знатный мужчина, как он ей понравился, какой он заботливый и надежный, вот везет же его жене.
Говорил Марк с трудом, слова в его голове превратились в кашу, наподобие той, что ел сейчас, и из этой однородной расплывающейся массы сложно было выудить нужные. Многие он забыл, особенно это коснулось существительных. «Оставил то, что пишут?» – спросил он медсестру, не в состоянии вспомнить слово «письмо». Медсестра уставилась на него, не понимая, что он хочет, ожидая пояснений, но Марк повторил уже сказанное и попытался изобразить жестом процесс писания. Наконец-то она догадалась: «Нет, письма тебе не оставил, но оставил деньги на лечение, они у меня, так что не бойся, выхожу».
Об уходе и лечении с момента возвращения сознания центурион как-то не удосужился подумать. Речь зашла о деньгах, и он вспомнил: «А мои?» Тут медсестра была догадливее и сказала, что деньги Марка у казначея легиона, насчет чего есть расписка, она в вещмешке, а вещмешок под головой, так что когда выздоровеешь, можешь спокойно их забрать. Марк не чувствовал, на чем он лежит, потянулся к вещмешку, но оказалось, руки слушались его не так хорошо, как он себе представлял. Медсестра, увидев его безуспешную попытку дотянуться, замахала руками, мол, я сама, придержав голову центуриона, положила скатанное в рулон шерстяное одеяло, достала мешок, принялась его развязывать, борясь с неподатливым узлом, Марка от этих телодвижений снова затошнило. «Потом», – прошептал он и едва не отрубился. Медсестра хмыкнула, пожала плечами, мол, как хочешь, вернула мешок на прежнее место.
Голоса внутри головы явно давали какие-то советы, диктовали инструкции, но понять, что они требуют, он не мог. И может, к лучшему. Иногда ему казалось, что и разговоры соседей происходят на непонятном языке. Не сразу он понимал и медсестру, так что той приходилось несколько раз повторять одну и ту же фразу.
За время болезни Марк потерял двадцать килограммов; если бы не индивидуальный уход и кормление, он вряд ли бы выжил. Он не узнавал своего тела, несмотря на потерю веса, оно казалось ему тяжелым, костлявые руки и ноги были просто неподъемными, любое движение давалось с большим усилием. Постоянно хотелось дотронуться до впадины над левым ухом, но даже легкое прикосновение отзывалось искрами в голове и судорогами во всем теле. По мере выздоровления эти симптомы стали исчезать. Правда, голоса в голове не умолкали еще долго, но тошнить стало меньше, и через некоторое время он смог сидеть и решился посмотреть на себя в зеркало…
– Что, совсем-совсем ничего не помнишь? – с сочувствием спросила Фелиция.
– Нет, но точно знаю, что у меня было хорошее образование и, судя по всему, я был не из бедной семьи. Я неплохо разбираюсь в философии и истории, в голове полно информации, даже не знаю, откуда все это. До ранения я делал записи о военной кампании, они у меня сохранились…
– Слушай, ну жуть какая, бедный ты бедный.
– Ерунда, подумаешь, кто-то теряет на войне руку или ногу. Я вот потерял часть своей жизни. Жизнь-то мы теряем каждый день понемногу, а у меня вот сразу ампутировалась большая ее часть. Но привыкнуть можно, хотя, конечно, в начале нее такая дыра, что если свалишься…
– Б-р-р-р, я бы не смогла привыкнуть, я бы постоянно мучилась, – сказала Фелиция и еще плотнее прижалась к Марку.
– Так я тоже мучился, а потом думаю, гори оно все синим пламенем… Ты вот с какого года себя помнишь?
– Лет с трех-четырех.
– Ну, и сильно по этому поводу переживаешь?
– Не особо, что я там в три года могла соображать.
– Так и я решил, просто амнезия у меня продлилась лет до восемнадцати-двадцати. Ведь еще неизвестно, что со мной там было, может, ничего хорошего.
– А кто-нибудь знает, что ты не помнишь себя до службы в армии?
– Да нет, никто.
– А о чем ты говоришь с мужиками, обычно же вспоминают…
– Конечно, не молчу, я придумал себе немного жизни, это несложно. Зато никаких подозрений.
– Ты-ты-ты… что, мне все наврал, что ли, когда о службе говорил, о походах на немцев! – делано возмутилась Фелиция, приподнялась на локте и шутливо ударила Марка кулаком в грудь.
– А это тебе решать. Но рана у меня настоящая.
– Нет, ты просто невыносим… – голосом капризной девочки произнесла Фелиция. – А вот ты неделю назад про какие-то перемены говорил, это у тебя только мечты в голове или ты действительно что-то задумал? решила сменить тему Фелиция, которой здоровое женское любопытство уже который день не давало покоя.
Марк вспомнил тот разговор, вспомнил свой намек, но ничего конкретного сообщить Фелиции пока не мог. Сказал только, что в последнее время все чаще и чаще стал думать об отставке, но еще не решил, как лучше уволиться из армии, чтобы получить компенсацию по максимуму.
Можно было сознаться в своей амнезии или симулировать невыносимые приступы головной боли, какая была у него раньше. Но имелась одна проблема: на гражданке Марк собирался плотно заняться историей, закончить свои записи о войне, издать их, а потом приняться за изучение быта и нравов германских племен в тех местах, куда еще не добрались римляне. Последнее было, конечно, не совсем историей, а скорее этнографией, но сути это не меняло: больной на голову историк-этнограф с амнезией – звучит как оксюморон. Марк прекрасно понимал, что с таким диагнозом его всерьез никто воспринимать не станет, свою болезнь и амнезию нужно скрывать как можно тщательнее, а значит, увольняться из армии по состоянию здоровья никак нельзя. Да и кто ему поверит, ведь после ранения три года как-то прослужил, разыгрывать комедию, притворяться больным – нет, он не хотел, да и таланта не было. Он даже стал завидовать тем солдатам, которые смогли во время бунта добиться увольнения из армии не после двадцати лет, а после шестнадцати.
Досрочное расторжение контракта – это же ни земельного участка, ни пособия, а три месячных оклада и гуляй. История и этнография никакого дохода приносить не будет, наоборот, занятия эти очень затратные, а как жить без имения, которое хоть как-то сможет прокормить? Но встреча и роман с Фелицией натолкнули его на одну мысль – а что, если открыть ресторан или выкупить уже готовый. На это денег должно хватить. Фелиция будет заведовать рестораном, он – писать, ездить в экспедиции.
Но вторую половину своего плана он пока не стал озвучивать, ну, чтобы женщина не обольщалась. Марк чувствовал, что ей хочется постоянного мужчину и, может быть, даже замуж. В роли мужа Марк представлял себя пока еще довольно смутно. В конце концов, для серьезного занятия историей надо остепениться, обрести покой и свободное время. Ему показалось, что Фелиция поняла больше, чем он предполагал, но ничем себя не выдала.
Марк старался как можно меньше общаться с солдатами, чтобы не выдать амнезию. Его холодность, конечно, не оставалась без внимания, и многие шутили, мол, а наш-то возмужал после ранения, но некоторые обижались – зазнался. Однако Марк держал дистанцию, благо его спасало, что последние три года он помнил и было о чем поговорить у вечернего костра в теплой компании. Но все равно он ощущал себя внутри некой оболочки, пусть и ставшей заметно тоньше, но по-прежнему приглушавшей краски и звуки мира, его чувства. Живу – будто трахаюсь в презервативе. Он догадывался, что мир звонче и ярче, а чувства острее, где-то там в глубине жили воспоминания об этих ощущениях, но вынуть он их не мог, как не мог вспомнить свои детство и юность. Заглянув в госпитале в вещмешок, Марк среди своих записок о бунтах и войне обнаружил несколько фрагментов и о себе.
«Сначала к отцу – чужаку в городе – относились настороженно, и никто не спешил заводить знакомства с ним. По первости он общался в основном с заезжими купцами, пил с ними вино в портовых ресторанчиках, пристрастился к борделям. Но местные со временем, поняв, что чужак вполне адекватен, стали захаживать к нему, сначала такие же, как и он, арендаторы, по делам, ну а потом уже просто пообщаться с человеком, несмотря на возраст, многое повидавшим и многое знавшим.
Тогда-то отец и познакомился с семьей матери. Скорее всего, этот союз был изначально деловым. Отец ожидал приличного приданого, а семья матери надеялась с помощью связей отца начать самостоятельную торговлю. Дед на старости лет мечтал заняться коммерцией, а тут подвернулся купец, сошедший на берег.
Деду не повезло, точнее, не повезло всем. Буквально во второй свой рейс его корабль, груженный оливковым маслом, сгинул где-то в Эгейском море. То ли пираты, то ли шторм – непонятно, но во все это предприятие были вложены большие деньги, причем не только деньги семьи, но и чужие. Отдавать пришлось отцу. Все это произошло до рождения Марка, но он сумел ощутить последствия этой трагедии на себе.
Видимо, тогда отец надломился, лишившись будущего. Вероятно, он рассчитывал вернуться туда, откуда сбежал, но долги, земля приковали его к острову намертво. Или даже и не рассчитывал, просто само ощущение, что всегда можно вернуться, питало его энергией. Вероятно, эти походы в порт, как на работу, давали ему это ощущение, эту энергию. Это было единственным, к чему тяготела его душа. Он не мог ничем долго и основательно заниматься, все ему быстро надоедало. У него постоянно случались загулы по борделям. Он два-три раза в год ездил в Рим, как говорил, по делам, но непонятно, чем там занимался, а мать каждый раз думала, что он не вернется, останется там и она больше его не увидит. Однако он приезжал: напряженный, угнетенный, неразговорчивый.
Он не строил никаких планов, казалось, он даже не замечал, что у него растут дети, и только прошлое было под пристальным его вниманием. Будто прошлое было сокровищем: он одновременно и берег его, и тяготился им, словно хранитель золотого клада, который нельзя оставить, ибо украдут, но и сидеть над ним уже нет мочи.
Хотя нельзя сказать, что к семье, детям он был равнодушен. С Марком он ходил в порт и уделял ему довольно много времени. Такую заботу отца Марк объяснял тем, что сам он из всех детей более всего был похож на него. А вот к старшему, Отону, получившемуся в мать, вероятно, не испытывал никакой привязанности. Родившись в то лето, когда исчез корабль деда со всем грузом – брат был лишним напоминанием о том несчастье. Причем даже не напоминанием, а одним из виновников, будто для его появления на свет необходима была жертва в два десятка человеческих жизней и в целое состояние. Кажется, Отон всю жизнь отрабатывал эту жертву. Обучив кое-как счету, письму и основам земледелия, отец отправил его на хозяйство. Это было одно из немногих полезных и целенаправленных его действий, так как оказалось, что Отон буквально создан для управления рабами и пашнями.
Поскольку Терцию таким образом на хозяйстве использовать было невозможно, а особой вины за все случившееся на ней не было, то что делать с Терцией, отец не знал, и это раздражало его очень сильно, поэтому он старался ее не замечать.
По мере того, как Марк рос и становился все больше и больше похожим на него, отец решил дать ему хорошее образование.
Сам он был прекрасно образован, и, видимо, имел обширные связи по всей империи. Марк постоянно заставал его за написанием каких-то заметок, писем, несколько раз видел, как отец пишет стихи. Казалось, письма стекались к нему со всего света, было такое ощущение, что каждый корабль, заходящий в порт, везет ему послание. Это было, конечно, не так. Но несколько раз в месяц приходили послания то из Сирии, то из Египта, Греции. Однако ни о ком из своих корреспондентов он с домашними не говорил, заметок и стихов никому не показывал. Все свое рукописное имущество отец хранил в сундуке, запирал его на замок, а ключ вешал на шею. От этого он походил на купца или ростовщика, но никак не на арендатора. Отец жил в каком-то параллельном мире и делал все, чтобы тот и этот миры не пересекались.
Он изрядно потратился на образование Марка, устроив его в лучший лекторий города. Плата за обучение наносила серьезный урон семейному бюджету, но домочадцы не роптали, хотя Марк чувствовал себя не очень комфортно…»
На этом свиток заканчивался. Несомненно, почерк был его. Но почему он написал о себе в третьем лице? Второй свиток был не менее странным:
«Марк, сколько себя помнил, всегда терзал то отца, то мать вопросами из истории семьи. Родители делились информацией неохотно, и не то чтобы им не было что вспомнить: событий в их жизни хватало, им просто лень было извлекать из глубин своей памяти прошлое и делиться им с настоящим, то есть с сыном. Если бы они знали подлинную причину интереса Марка к истории, то, может быть, вели себя по-другому и сделали бы над собой усилие, помогли бы ему, хотя, конечно, вряд ли ему можно было помочь, но они не знали, впрочем, и сам Марк не смог бы объяснить, что ему нужно.
По большому счету Марка волновало в семейной истории только одно – время, когда его не было. Да что там волновало, он испытывал настоящий священный ужас, когда воображение заносило его в эту даль, в даль „до того“. Даже точка отсчета его жизни, появления на свет не пугала Марка так, как та зияющая пустота, в которой было все, в которой были даже его родители, но не было его самого. Это невозможно было представить, с этим невозможно было свыкнуться, это невозможно было приручить и одомашнить, этому невозможно было дать имя.
Его приводило в ужас и другое – то, что будет после. Смерти, как любой живой, он боялся и уже неоднократно сталкивался с ней, и знал, что когда-то и она столкнется с ним. Но смерть имела название, а значит, с нею можно было жить, ее можно было приручить. А это был именно ужас: ужасна была эта симметрия, в которой время до него ничем не отличалось от времени после него, ужасно было собственное отсутствие при присутствии всего остального, но еще ужасней было знание об этом.
Где находится точка отсчета, за которую можно зацепиться, с помощью которой можно изгнать этот головокружительный тошнотворный ужас перед небытием? Если нет разницы во времени „до“ и во времени „после“, то был ли я?
Где начинаюсь я? С появления моих родителей на свет или с их знакомства, или с моего зачатия, или с моего рождения. Проще, конечно, было считать с рождения, но никакого рождения не было бы, если бы родители не существовали на свете, если бы они не встретились, не зачали меня. Я ли был в чреве матери девять месяцев, или там внутри было нечто, что, только родившись, стало мною. Или стало не сразу, а года через четыре, когда я стал помнить себя… Марк пытался решить уравнение своей жизни, но какие бы действия он ни совершал с его слагаемыми, результата после знака равенства никак не получалось. То есть ни одно из действий не вело к рождению именно его. Его, обладающего именно этим телом, этим сознанием, испытывающим эти эмоции. Из всего того, что делали его родители, родители их родителей и десятки поколений, ни одной тропинки, ни одной дорожки не вело к нему. Однако он был, и это вовсе не значило, что все предки жили только для того, чтобы это осуществилось, чтобы на острие копья, направленного в будущее, оказался он, а не кто-нибудь другой… На острие копья, в окружении пустоты „до“ и пустоты „после“… При смерти мир не изменится, но прекратится.
Где проходит твоя история и где история другого? Как пролегает граница, например, между историей отца и его историей? И существует ли вообще граница, и если есть, то как ее почувствовать, как обрести хоть какую-то опору?»
Был и совсем маленький третий отрывок, который никакой ясности не добавлял, а, наоборот, запутывал.
«Отец Марка, Петроний, был средней руки арендатором. Старший брат Марка, Отон, помогал отцу управляться с рабами и крестьянами. Младшая сестра Терция вместе с матерью Юлией вела хозяйство и мечтала выгодно выскочить замуж.
Приданого за ней много дать не могли, но она была необычайно хороша собой, обладала легкой изящной фигурой, бледной кожей и золотистыми волосами, словно была не уроженка этих мест, а откуда-то с севера…
Отец был не местный, он приехал на Сицилию с торговцами из Каппадокии, но почему-то остался здесь, объясняя свой поступок тем, что ему просто понравился остров и захотелось осесть на земле, а не болтаться на волнах по миру, не чувствуя почвы под ногами.
У него были какие-то деньги, он взял в аренду небольшой участок пашни, купил дом, пару рабов для обработки земли и зажил тихо и незаметно. Судя по тому, как мало он говорил о своей жизни до того как встретил мать, у Марка сложилось впечатление, что он не просто приплыл на остров с торговцами, а откуда-то сбежал. Может, из самого Рима или другого крупного города империи, но что заставило его покинуть насиженное?… У Марка часто разыгрывалось воображение, он живо представлял, что могло случиться с отцом, хотя прекрасно понимал, что не верить ему нет никаких оснований».
Все найденное тогда нисколько не обрадовало Марка, а, наоборот, напугало. Марк смотрел на свой текст и не узнавал его. Он поразился собственной подмене, поразился превращению того, кто рассказывает в того, о ком рассказывают. Это был не он. Он впервые посмотрел на себя, как на «него». История его семьи не была его историей. Он не чувствовал себя человеком, написавшим это. Это был чужой Марк, он пытался вспомнить тот ужас смерти, о котором писал, и не мог. Но, наверное, так и было, раз пишу. Хотя чувства и мысли, которые он описывал в этих отрывках, с таким же успехом могли принадлежать другому, Марк не ощущал их своими, та часть жизни была чужой, была не пережитой. Но хотя бы что-то узнал о себе и о семье, утешался он.
Правда, в вещмешке была еще одна непонятная находка. Там оказались записи какого-то Веллея Петеркула, причем они тоже были выполнены почерком Марка. Этот самый Петеркул был в свите Германика, когда тот совершал свое азиатское турне.
«По прошествии незначительного промежутка времени цезарь прибыл в Сирию, вел себя он там по-разному, в зависимости от того, с кем встречался, и от обстоятельств. Советники не всегда верно подсказывали молодому цезарю, как надо себя вести, да и сам он в силу возраста и нрава не всегда мог держать себя, так что не было недостатка в поводах, как для восхваления, так и для некоторого порицания.
На острове, расположенном посредине реки Евфрат, он встретился с царем парфян, юношей выдающегося положения, в сопровождении равной по числу свиты. Это было во всех отношениях удивительное и достопамятное зрелище встречи двух глав империй в присутствии римского войска на одном берегу и парфянского на другом. Я был так рад, что мне довелось наблюдать его в начале службы, когда я был военным трибуном. Это врезалось в мою память и осталось со мной на всю жизнь. Может, только поэтому я считаю ее удавшейся и счастливой. Я видел столько, что нет слов, чтобы это описать. Я видел Азию и все восточные провинции, страны, города, людей, а также вход в Понт и оба его берега.
Я видел великое и ужасное. Я видел Азию, подобную змее, пригревшейся на камне, видящую свои кошмары, которые не рассказать. Не приведи господь её потревожить. Я видел Азию в броске, ее пасть с клыками, кишки в развороченных животах солдат на улицах Бишкека. Я видел Азию в апреле, когда мы были молоды и для нас горели фонари, только для нас. И мы шли мимо них, и все были еще живы, все трое, а потом двое полегли под фонарем, потому что прилетела мина. А я жив. Все, все это было со мной. И закатная тень от броневика у ног узбекского солдата, и похороны, и то чувство, что навсегда остался здесь, между Китаем и Россией.
И лучше помнить даже такое, чем вовсе ничего не помнить. Не могу удержаться, чтобы к рассказу о деяниях цезаря не добавить один эпизод, каким бы малозначительным он ни был. Когда мы поставили лагерь по одну сторону Евфрата, с другой, вражеской стороны, один из варваров, человек преклонного возраста, рослый и, как показывало его одеяние, занимающий высокое положение, сел в челн из полого дерева, вполне обычное в этих местах средство передвижения, и в одиночку добрался до середины реки, а оттуда уже закричал, что просит разрешения сойти на занятый нами берег, так как очень хочет увидеть цезаря. Ему, конечно, разрешили, он подогнал лодку, она ткнулась носом в песок, он сошел, к нему вышел цезарь. Варвар долго молча смотрел на него, а потом сказал: „Наша молодежь безумна, если она чтит вас как божество в ваше отсутствие, а теперь, когда вы здесь, страшится вашего оружия вместо того, чтобы отдаться под вашу власть. Я же по твоему милостивому позволению, о Цезарь, сейчас вижу богов, о которых ранее слышал, и за всю свою жизнь не желал и не имел более счастливого дня“…»
На этом фрагмент рукописи счастливого человека, видевшего Азию в апреле и потерявшего друзей под каким-то фонарем в Бишкеке, обрывался. Марк не понимал, зачем ему понадобилось переписывать этого Петеркула, но иногда ему казалось, что Петеркул – это он.