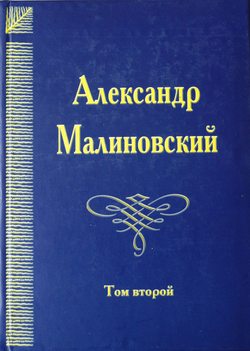Читать книгу Под открытым небом. Собрание сочинений в 4-х томах. Том 2 - Александр Малиновский - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Под открытым небом
История одной жизни
Книга четвёртая
Встречный ветер
XVI
ОглавлениеЕсть за селом Домашка совсем недалеко, чуть в стороне от большака, небольшая деревенька Бариновка. Как только её чуть минуешь и поднимешься через небольшой мост на взгорье, тут тебе и откроется справа – неоглядная степь, слева внизу – огромная луговина. А там, вдали за ней – притулившееся к реке Самаре село Утёвка.
Здесь Руфина и попросила остановить машину. Румянцев остался возиться у старенького отцовского «Москвича», а Суслов, Руфина и Ковальский направились к луговине.
– Сашенька, – Руфина показала рукой в сторону раскинувшегося села. – Что-то на фоне облаков поблёскивает и сливается с ними?..
– Это Троицкий храм, церковь, – откликнулся Александр. Она подошла и прижалась сзади, обняв ласково за плечи.
«И назвала меня так – «Сашенька», впервые при посторонних обняла… Что это? Степь так действует?»
– Очень люблю эти первоосенние дни. Природа грустит так светло. Притихла. Пер-во-осень. Как красиво звучит, – произнесла Руфина.
– Она в раздумьи: и с летом жалко расставаться, и осени не миновать. Бабье лето… И твоё!
Глаза у Руфины повлажнели, слегка потемнев, но Александр этого видеть не мог. Только острее почувствовал её дыхание.
В осенней вышине, в светлом прогретом воздухе, словно в летнюю пору, на удивление зазвенели жаворонки. Ласка бабьего лета ввела их в заблуждение!
Остановившийся неподалёку Суслов прислонил ладонь к берёзке, вспыхнувшей костром под напором калёных солнечных стрел.
– Саша, а что такое изумрудное внизу… там… – Он показал далеко вниз, на то место, где когда-то, в детстве Ковальского, было озеро, а теперь образовалась ровная долина.
– Это отава украсила луг. Сентябрь встретился с июнем. Теплынь. Вот и откликается всё так, будто начало лета… Но это ненадолго. Скоро 14 сентября – межа. День-летопроводец. Мы попали в самую хорошую пору. Скоро по утрам будет попахивать морозцем.
– Ты крещёный? – спросила Руфина. Она спустилась ниже Ковальского по обрыву и смотрела теперь на него снизу вверх лучистыми, ставшими светло-голубыми, глазами.
– Да, с детства. Мама крестила меня не в нашей церкви, а в соседнем селе. Наша церковь не действует.
– Саш, а вот смотри, – проговорил Суслов. – Попробуй убери купол храма или храм из этой панорамы и всё потускнеет, верно? Словно он притягивает свет небесный. Всё вокруг светлеет…
Ковальский невольно ещё раз оглядел окружающее. Сколько раз сиживал он в детстве у этого ильменька на зорьке. Как часто гонял здесь стремительных чирков. Наблюдал, как учились летать, готовясь к дальним странствиям, молодые медлительные выпи.
…Теплынь толкнула лёт тенетника. То здесь, то там мелькали в округе молодые паучки. У них своё кочевьё. Ищут новое пристанище.
– Саша, а вот это же не паутина? – удивилась Руфина, показывая на рукав своей куртки.
Ковальский подошёл, снял белесую нить и пояснил:
– Это семена степного ковыля, смотри… Просушенные летним солнцем ости легко подхватываются ветром и летят неведомо куда, пока где-то не опустятся. Трава мешает семени добраться до земли. И лишь когда в росистую ночь ость отсыреет, ввинчивает острое семечко в почву. Утром солнце начинает подсушивать её. Ость скручивается и отрывается, уносимая ветром. Семечко остаётся. Из него появляется потом пушистый красавец – ковыльный веер…
Руфина смотрела на Ковальского изумлёнными глазами. Ноздри её мелко и чувственно подрагивали. Она приблизилась и, обняв Александра, поцеловала в губы. Когда их дыхание возобновилось, прошептала:
– Ты рассказывал, как поэт! – И вновь приблизила свои губы…
– Мне завидно! – отреагировал негодный Суслов.
Смутившись, Руфина легонько оттолкнулась от Ковальского.
– Хотите, стихи почитаю, – предложил подошедший Румянцев.
– Хотим! – ответила за всех Руфина.
Николай легко провёл рукой у своего лица, отведя в сторону паутинку, и начал:
– Цветы мне говорят: «Прощай!» —
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Её лицо и отчий край.
Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь,
Как ласку новую приемлю…
Голос чтеца оказался на удивление чист и мягок. Он на мгновение затих и, видя, что все внимательно слушают, продолжил:
– И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо,
Я говорю на каждый миг,
Что всё на свете повторимо.
Не всё ль равно – придёт другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.
И песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.
Едва Николай закончил, Руфина захлопала в ладоши.
– Замечательно, Есенин в степи!
– Не ожидал! – удивился Ковальский. – На рыбалке ты не читал стихов. Да так проникновенно!
– Там кругом вода, а здесь – степь! Не удержался!
– И Руфины не было, – добавил Суслов, засмеявшись.
После небольшой паузы Николай произнёс:
– Странно, что у Есенина о реке нет ни одного стихотворения. А вырос на Оке.
– Неужто так? – отозвался Суслов.
– Да, – продолжал Румянцев. – Есть такие строчки: «На кукане реки тихо песню поют рыбаки…». Но вот штука какая… – сказал так и замолчал.
– Ну, говори, – не терпелось Руфине.
Николай ответил:
– Я – рыбак, знаю, что такое кукан. Это приспособление из лески, верёвочки или проволоки. На него надевают через жабры пойманную рыбу, понимаете?
– А-га, – сказал Суслов. – И что же?
– Когда сажаешь рыбу на кукан, жабры рвутся, руки в крови, рыба – тоже…
– И что же? – снова спросил Суслов.
– «Что же»? Вот посади тебя на кукан? Какую песню запоёшь?
Лицо Суслова превратилось в сплошную гримасу.
– Ну, ты, начальник, даёшь, – сказал он. – Так можно испортить, что угодно, не только стихи.
– Вот и я говорю, – невозмутимо продолжал Николай. – Какая на кукане песня?
Руфина заступилась за поэта так энергично, будто тот из их компании, только отлучился куда-то.
– Ну, что вы, ребята, Есенин – гений. Поверим ему! Это же поэзия! Её нельзя иными законами выверять. Только поэтическими. – И добавила задорно: – Какие вы все молодцы! Мне так хорошо с вами!
* * *
Добравшись до села, они пересекли его, не останавливаясь, и оказались на шоссе, ведущем к озеру Бобровое и далее к селу Покровка.
Постояли на высоком берегу озера, наблюдая, как на илистой косе со стороны села пошумливает огромная стая куликов.
Ковальский вспомнил, что на другом конце озера обычно много ежевики. Захотел порадовать спутников.
Когда подъезжали к заветному овражку с ежевикой, наткнулись на Николая Яндаева. Он, как всегда, скакал трусцой на своём меринке. Стадо растянулось в ложбинке между озерами Бобровое и Латинское.
«Примета хорошая, – подумал Ковальский. – Попробую на удачу загадать. Если узнает меня, то у нас с Руфиной всё будет хорошо, нет – не судьба».
Когда приблизились, Александр поприветствовал Яндаева и спросил:
– Сашка-то, брат, в Ташкенте так и живёт?
– А ты кто такой, не припомню?
«Ну, вот… – упало сердце у Ковальского. – Не судьба».
– Вместе учились, я Ивана Головачёва внук, Ковальский.
– А что ж я тебя сразу не признал? Сильно изменился.
– А ты – нет.
– Ну, я что? Мне зачем меняться, остаться бы, как есть…
…Заросли ежевики удивили.
Едва поднимешь плеть, крупные ягоды, одна другой краше, будто подмигивая, манят к себе.
– Царство агатовых глазок, – удивилась Руфина. – Какое у тебя должно быть интересное детство!.. Такие облака, небо, озёра – тебе повезло очень…
«Сколько ел ежевику, никогда не думал, что так можно красиво сказать: «агатовые глазки»!» – порадовался в свою очередь Александр.
…Дома у Любаевых – никого. Вместо замка – дверная цепь наброшена на кольцо.
Александр прошёл в огород. Ни матери, ни отца там нет.
– Поехали к сыну, – вернувшись во двор, предположил Александр.
– А как же… – начала, было, Руфина.
– Записочку оставлю…
* * *
Посреди широкого двора Бочаровых, куда гости вошли цепочкой, стояли Григорий Никитич и Проняй Плужников.
– Ах, Боже, какие гости! – выходя из мазанки, всплеснула руками Дарья Ильинична. Подошла и погладили Александра по плечу: – Давно приехали-то?
– Да только что. А Саша где?
– Наверное, у Гришаевых, сейчас сбегаю…
Мужики поздоровались.
– Как, дед, жизнь? – спросил, обращаясь к Проняю, Ковальский.
– Да как? Арбуз растёт, – он похлопал по животу, – а вешка, извиняюсь, сохнет…
Суслов хохотнул.
– Ну, дед, – обронил Александр и поёжился от ответа. Ему неудобно, что такое может услышать Руфина, но она о чём-то говорила в сторонке с Румянцевым и, кажется, не слышала Проняя.
– Ты, старый, полегче, – проговорил Бочаров, – а то, понимаешь…
Всё понимал Проняй. Озорно прибавил голосу громкости и возразил:
– Ну, какой же я старый? – Пошевелил губами, закусив край усов. Хитро прищурился. – Старость, вернее, её первые приметы, знаешь, когда начинаются? – Почти серьёзно посмотрел почему-то на Ковальского и, не дождавшись ответа, продолжал: – Она приходит, когда любая молоденькая, извиняюсь, бабёнка, начинает казаться красавицей, смекаешь?.. А я пока ещё бесперспективный в этаком роде… Мне моя супружница всех видней до сих пор. А она на год старше меня, вот ведь как! Такая любовь!
– Красавица, видать? – подыграл Суслов.
– Красоту в щи не положишь, – коротко отозвался дед.
– Дед, а что такое любовь, ты понял? – Суслов весело смотрел на Проняя.
– А ты знаешь?
– Знаю, – ответил Суслов.
– Ну, скажи, я антиресуюсь этим делом давно.
– Любовь – это чувство, возникающее у людей, недостаточно знающих друг друга.
– Да, – неопределённо проговорил дед. – Учёный ты, видать, парень. Запиши мне потом на бумажке – к старости сгодится!
Все засмеялись.
Проняй краем глаза подметил, что и «красивая дамочка» засмеялась, и остался доволен собой.
Пришли сразу Дарья Ильинична, Саша и Екатерина Ивановна. Во дворе стало пёстро и шумно.
– А я очки-то еле нашла, прочитала и прямо спотыкошки бегом сюда. Вас тут столько! Как хорошо-то! – радовалась Екатерина Ивановна.
Начали знакомиться.
* * *
…Когда поели-попили на большой летней открытой веранде, все женщины дружно ещё малость похлопотали, убирая посуду. Потом, забрав Ковальского-младшего, пошли в сад, который, в отличие от огорода, не прямо у дома, а через дорогу. Так почти у всех, кто живёт на Дачной улице.
Мужики остались одни во дворе на брёвнышках.
Проняя так и не отпустили домой (а он и не хотел уходить, а только «для блезиру» собирался). Куда торопиться? Публика такая интересная. Дед и Суслов курили.
Первый заговорил Проняй:
– Счастливый ты, Григорий, около тебя внук. Как ни суди – радость великая! А мои не доверяют нам. Сноха не доверяет. Она, конечно… Ни однова не оставили, чтоб без них. А с ними – это всего на день-два. Пока они, родители, тута… Ну, ладно, это вам не интересно. Меня вот какие мысли жалят, как осенние мухи. – Дед помолчал, то ли собираясь с духом, то ли на «испыток», как он говорил, брал: коли будут слушать, не перебьют, согласен говорить. Все молчали. И он начал не спеша:
– Недавно имел беседу с директором школы. Кое о чём толковали. Так он говорит, что мои рассуждения направлены на подрыв устоев общества. Ты, говорит, зловредные мысли гонишь. А чего я гоню? Они сами висят в воздухе, только от них все отмахиваются, а я – нет. Я присматриваюсь и понять хочу. Вот ты, например, Ковальский… мысли мои…
Бочаров добродушно засмеялся:
– Он, Саша, тебе сейчас морочить голову начнёт. По-другому не может.
– Да не я морочить собираюсь. Помогите, чтобы голова моя из заморочки вышла.
– А что за мысль-то? – Ковальский улыбнулся.
– Да я всё свово поджидал сына, а ему неколи. План по самолётам делает – главный анжинер на заводе. Редко приезжает. Некого спросить… Шишку я родил, понимаешь… Начальника.
– Бывает и такое! – озорно согласился Суслов.
– Бывает, – легко усмехнулся Проняй, – что у невесты жених умирает, а у вдовы муж живёт!
– Что спросить-то хотел? Забыл? – добродушно заметил Ковальский.
Но дед знал, на какие лады нажимать, когда разговоры разговаривал. Пауза важна.
Он ещё чуток пожевал губами. Обнажив беззубый рот, позевнул.
– Струмент весь, что ли, износился? – улыбнулся Григорий Никитич.
Ковальский не понял, о чём он. Проняй ответил:
– Почти. Да и на кой он таперича? Цыловатца поздно, да и остальное уж неинтересно становится. А как совсем почти слепой Синегубый стал, дружок мой верный, вовсю жизнь набекренилась. Грустный очень. И я с ним. – Он замолчал. Но не надолго. – Да, вот, Сашок, скажи мне: вы у себя на заводе по плану работаете?
– Конечно, как без плана можно?
– А по какому плану? – поинтересовался дед.
– Ну, по заводскому, цеховому, – уточнил Ковальский.
– Хорошо, – произнёс Проняй. – Значит наверняка и встречный план приняли. Об этих встречных планах и в газетах, и по радио строчат. Приняли?
– Так точно, приняли.
– А зачем вам встречный, скажи?
– Ну, как – зачем? Чтоб производительность росла, продукции больше для страны давали…
– Вот твой отец, Сашок, Василий Фёдорович, к примеру, делает севодни две седелки для совхоза. Приезжает за ними эта шельма Белохвостиков. А Василий ему вместо двух – четыре: я, мол, встречный план взял, а через недельку ещё две сверх плана. А их и не надо столько, седелок-то. Как это? Лошадей-то столько нет!
– Ну, они договорятся меж собой и решат: когда и сколько, – уверенно пояснил Ковальский и взглянул на Проняя.
Лицо у Проняя строгое и задумчивое. Ему всё равно «кое-что» непонятно.
– А сразу нельзя, что ли? Нормальный план брать? И не морочить голову. Без социалистических повышенных обязательств? А то ведь кажный раз переделка плана по всему государству надобится. Зачем заново столько людей тратят силы? Столько бумаги марает зазря? Есть власть. Сразу бы! Раз – и отрезали: вот вам план! И за работу, товарищи!
Ковальский смотрел на Проняя и не знал, что сказать. Не торопясь, начал:
– Нужна инициатива людей, чтобы они с азартом работали. Поэтому принимают повышенные планы и это поощряется…
– Э-э, дружок, инициатива? Ты плати хорошо – вот и будет инициатива, а не медали давай… Как жить-то в городе, если у тебя четверо или пятеро детей, к примеру, как у соседа моего сына. Я видел…
– У нас что самое важное в производстве? – произнёс Суслов и сам же, чтобы Проняй не увёл в сторону, ответил: – Производительность труда. Верно? Верно. – Проняй, он это видел, не торопился соглашаться. – Значит, чем больше продукта даёт одно и то же количество людей, производительность больше, – сформулировал Владимир.
– Ну, дайте норму повыше, и всё тут! – воскликнул по-молодому Проняй. – Что, не можете сами дать? Верно, не можете? Ведь, если не выполняют норму, надо увольнять. Сколько народу по стране будет безработного. Что с ними делать? Всё разъяхнуться может. Уж пусть работают на маленьких планах и берут встречные… забавляются…
– Какие – маленькие планы? – спросил Владимир.
– Заниженные, – поправился Проняй. – Я так думаю: если постоянно берут встречные планы и социалистические обязательства, значит, спервачка они занижены. – Он, было, замолчал, но тут же встрепенулся, как задремавший кочет: – А знаешь, кто их занижает?
– Кто?
– Начальники! Начальник участка, цеха, что там у вас ещё?.. Ну, конечно, директор и даже министры. Все хитрят. Каждый суслик в поле – агроном, известно… Всем надо, чтобы план утвердили поменьше. Чтобы потом, за выполнение-перевыполнение, получать премии, награды… Я так вижу, дело-то идёт, хотя ни разу директора не видел, тем более, министра… А партия не даёт им такого послабления. Партии нужно больше и больше. Она вовлекает массы против вас – начальников. Вот я и думаю: кто верх возьмёт? Ведь так долго нельзя.
– Дед, ты – стратег! Издалека всё видишь? – вступил долго молчавший Румянцев.
– А это нетрудно. Газеты почитай! Меж строк проглядывает… Кто в газете пишет, чай, сам не верит тому…
Суслов покачал головой:
– Не ожидал такого. Мы там в рабочей горячке не всегда задумываемся…
– Известное дело, со стороны виднее… – обронил Проняй, – и вы мои мысли не опрокинули. Думал, что могу быть не прав, и порадовался бы этому. А тут гляжу: не пришла ещё к вам на заводах задумчивость. И мой сын Аркадий такой же, как вы… Молодняк! Вот я и стал на думах, как на вилах.
Ковальский хотел возразить, но Проняй продолжил невесело:
– Не в силах пока власть заставить так машину крутиться, чтобы на все обороты работала. Либо нет у власти силы такой, либо с машиной чтой-то… А так энтузиазму кругом полно… – Зорко оглядел всех и задал ещё один мучавший его вопрос: – Вот город затянул нас на свою сторону, оторвал от земли, а не подведёт ли? А ну оборвётся где? Внатяг больно… Помнишь, Александр Батькович, сад-то наш яблоневый, который в степи вместе сажали? Хиреть начал… К городу прикрепили, оторвали от села, как вас, и в упадке он… Не зря все эти бултыханья ещё при Хрущёве были: то с целиной, то с кукурузой… Страну надо кормить, народ. С голодным народом власти тяжело справиться будет… Вот выход и ищут… Из одной стороны…
Проняй посмотрел на Ковальского внушительно. Ожидал, очевидно, от него продолжения разговора о судьбе их общего любимца – сада, но Александру стало не до того…
* * *
Во двор вернулись шумной ватагой женщины и младший Ковальский. Руфина и Саша шли, держась за руки, и улыбались.
– И смех, и грех, – говорила Катерина. – Руфина стала смотреть в колодец, споткнулась и чуть не упала в него, а Сашок схватил её так, что она больше не от испуга закричала, а от того, как крепко вцепился.
– Утонула бы, что папе тогда делать? Он её привёз, – серьёзно сказал Саша. – Мы долго ждали…
– Вот и я говорю, – подыгрывала Дарья Ильинична, – ждали-ждали, когда привезёт. Привёз, а она – бултых в колодец и опять мы одни? Нет уж! Саша нас сразу всех спас!
Ковальский и Руфина несколько раз встретились взглядами и она с тихой радостной улыбкой кивнула ему. «Мне хорошо тут, так хорошо, что я не ожидала», – говорили её глаза.
Увидела, что он понял, высвободила руку и прижала к себе Сашину головку с такими же лёгкими завитушками, как у Ковальского. И Саша не отстранился и не застеснялся. От опытных Дарьи Ильиничны и Екатерины Ивановны этот разговор глазами не ускользнул. Они улыбались.
Александр светился: «Её появление везде вызывает радость. Редкий дар!..».
Ковальский-младший тоже не терялся, у него свой интерес. И он выбрал момент:
– Дед, а ты теперь, когда папа приехал, разрешишь на Гнедом покататься?
Ковальский вопросительно посмотрел на Григория Никитича.
– У Трохиных Фёдор-то конюхом сейчас, его сынишка гоняет на лошадях и нашего заманивает.
– Ну и что? Пускай…
– Да ну, ты когда начал скакать?
– Классе в пятом, по-моему…
– Вот. И наш пусть годика два подождёт. Мал ещё.
– Ну, деда? – младший Ковальский не сдавался.
А старший, поразмыслив, согласился, но с условием:
– Исполнится десять лет – попробуем!