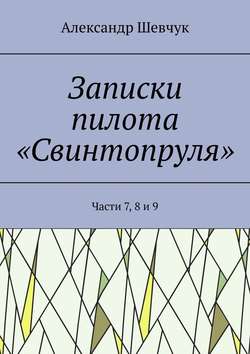Читать книгу Записки пилота «Свинтопруля». Части 7, 8 и 9 - Александр Шевчук - Страница 12
Часть седьмая
«Слепой полёт»
ОглавлениеЯ уже говорил, что примерно 90—95 процентов налёта на вертолёте, это визуальные полёты. Визуальные, это когда ты постоянно видишь землю, опознаёшь ориентиры на ней, точно знаешь своё место, а отсюда уже можно посчитать путевую скорость, точное время прибытия, остаток топлива. Но бывает так, что для полётов вблизи земли нет условий – низкая облачность, туман внизу или метель такая, что горизонтальная видимость, ну очень смешная, типа «дальше носа не видно». А лететь надо. Тогда вертолёт забирается на высоту, так называемый эшелон. Они, эти эшелоны, начинаются с высоты 900 метров по давлению 760 мм ртутного столба, если ты летишь, грубо говоря, в северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях. И с высоты 1200 метров, если полёт происходит в юго-западном, западном и северо-западном направлениях. То есть, встречные эшелоны разведены на триста метров, чтобы воздушные суда могли безопасно разойтись по высоте. С подъёмом на большие высоты расстояние между встречными эшелонами увеличивается. Небо напоминает слоёный пирог и в каждом слое этого пирога своя вишенка – самолёты и вертолёты. На эшелонах летают по приборам, всё равно ведь земли не видно, а надо как-то ориентироваться в пространстве. Вот здесь на помощь и приходят приборы. В полётном задании с внутренней стороны на правой странице предпоследняя вертикальная колонка обозначена словами «приборный налёт». Вот туда и вписываются эти цифры, минуты приборного налёта по участкам полёта. Приборный налёт учитывается в лётной книжке каждого лётчика. И чем больше у тебя этого налёта, тем увереннее ты себя чувствуешь в кабине вертолёта. Есть ещё налёт ночью, но это несколько другое, ведь бывают такие чудные ночи, когда сияет луна и светят звёзды, а внизу видны огни посёлков, земные ориентиры и т. д. и т. п.
Полёт по приборам на эшелоне, это или перегонка воздушного судна в ремонт – из ремонта, когда ты идёшь от аэропорта к аэропорту по трассе, или возвращение на базу с дальней точки в тундре, когда погоды для визуальных полётов нет, поэтому забираешься на эшелон и поехал к родному дому, где тебя любят и ждут. При полётах на эшелонах всегда выбирают запасной аэродром, ведь надо же куда-то уйти, если по погоде нельзя сесть на аэродроме назначения. Ещё приборный налёт набирается при тренировочных полётах на родном аэродроме. А вот теперь постарайтесь представить себе ощущение лётчика (экипажа) при слепом полёте или полёте по приборам.
Вертолёт только оторвался от бетонки при взлёте по-самолётному. Земля замедляет свой бег, низкая облачность тяжело нависает над аэродромом. Несколько секунд, и машина оказывается в сплошной серой мути. Она непроницаемо охватывает кабину, и куда бы ты ни глянул, хоть в лобовые стёкла, хоть в блистер – вниз и в стороны, ты ничего не увидишь, кроме этой однообразной субстанции, у которой нет ни низа, ни верха. Всё, вестибулярный аппарат теперь отсечён от привычных ориентиров, нет ни земли, ни горизонта, ни солнца, нет ничего. И только приборы, привычные навигационно-пилотажные приборы помогут тебе не потерять себя в пространстве и спокойно довести свой вертолёт к аэродрому назначения. В слепом полёте главным прибором для нас являются авиагоризонты, их на борту целых три штуки. У этого прибора живой силуэт самолётика покачивается над линией искусственного горизонта, показывая, как ведёт себя вертолёт, какое положение занимает он в пространстве. Задирает или опускает нос, кренится ли влево-вправо. Аккуратными короткими сдвоенными движениями «ручки» ты удерживаешь машину в ровном положении, не давая ей отклониться. Если вертолёт более современной серии, с автопилотом, то умная машинка помогает, поддерживает вертолёт по крену и тангажу (продольному наклону). А если включены каналы стабилизации высоты и скорости, тогда можно убрать руки и ноги с органов управления и немного расслабиться.
Сегодня у нас машина старой серии, обыкновенная «шестёрка» (МИ-6), без автопилота. Вертолёт немного моложе меня, я ещё ходил в детский сад, а его выкатили из цеха Ростовского вертолётного завода. Хоть и старая, но надёжная «ласточка» с бортовым номером СССР-21856. В кабине вместо красного подсвета приборов и панелей стоят ультрафиолетовые светильники. Такие чёрные цилиндрики, закреплённые на «ручках» пилотов, на задней стенке кабины лётчиков, в кабине штурмана, на потолке у верхнего щитка АЗСов, за перегородкой у механика и радиста. Свет ультрафиолетовых ламп в этих светильниках регулируется специальным поворотным колпачком. Мы летим на эшелоне в облаках, да ещё и ночью (взлетали в сумерках, теперь наступила ночь), поэтому в кабине все приборы, надписи на приборных досках, панелях и пультах светятся зеленоватым таинственным светом. Красиво, но через некоторое время начинает приедаться. В ультрафиолетовом свете, кажется, что и лица экипажа начинают отливать этакой зеленоватостью. Прямо пять «Шреков» в одной кабине.
Машина устойчиво идёт в наборе высоты, я старательно выдерживаю курс, заданный штурманом, мы должны выйти на трассу. Вариометр (указатель вертикальной скорости) показывает набор высоты – три метра в секунду. Стрелка скорости замерла на третьем делении от цифры двадцать, значит идём со скоростью 230 километров в час. Стрелки высотомера, толстая и тонкая, плавно движутся по циферблату, пока не замрут: толстая – у цифры один, а тонкая – у цифры восемь. Это и будет наш эшелон или высота 1800 метров. Все приборы: указатель курса, высотомер, вариометр, указатель скорости – расположены вокруг авиагоризонта. В слепом полёте он, авиагоризонт, центр мироздания. Ты смотришь на все эти приборы, охватывая их одним взглядом, а, не бегая глазами от одного к другому (хоть и в определённом порядке), как это делает молодой лётчик. С опытом начинаешь смотреть на приборную доску, как на лицо знакомого человека, понимая сразу, что он хочет тебе сказать. В нижней части авиагоризонта, в изогнутой стеклянной трубочке, в её центре, покачивается чёрный шарик, показывающий боковое скольжение вертолёта. При развороте, крен постоянный, шарик замер в центре, значит вираж нормальный, без внутреннего и внешнего скольжения.
Мы идём вслепую. Только цифры – 230 на указателе скорости говорят о том, что мы движемся с довольно приличной для вертолёта скоростью. А цифры – 1800 метров на высотомере намекают нам, что мы почти в двух километрах над землёй. Глаза видят эти показания, мозг осознаёт их, но всё равно такое ощущение, будто мы, как муха в янтаре застыли навечно в этой серо-чёрной субстанции, которая со всех сторон обнимает вертолёт. Только лёгкая болтанка, даже не болтанка, а так, движение воздуха чуть качнёт вертолёт, и ты плавно и аккуратно возвращаешь свой корабль к заданным параметрам полёта. Постоянно таращиться на приборную доску нельзя, глаза устанут от напряжения. Поэтому, не торопясь осматриваешь кабину, взгляд вниз – на штурмана, потом взгляд пробегает по целому ряду табло на центральной приборной доске, попутно сверяя показания своего авиагоризонта с резервным и авиагоризонтом второго пилота. Горят зелёные табло гидросистем, бегает туда-сюда стрелка на манометре основной гидросистемы, второй пилот смотрит куда-то сквозь лобовое стекло. Оглянулся, бортрадист работает по второму каналу (дальней связи). В наушниках слышно эхо его голоса: «Сургут-радио, Сургут-радио…». Механика не видно, он у меня за спиной, за своей приборной доской, но время от времени я слышу его размеренные доклады: «Расход – 2250, остаток топлива десять с половиной тонн…». На борту порядок, мы уже второй час летим в ночном облачном небе и впереди ещё три часа полёта. Сейчас передам управление второму, пусть он покрутит баранку, а я передохну малость. Я же говорил, что вертолёт без автопилота, поэтому так и будем пилотировать поочерёдно, «в рукопашную», не давая уставать друг другу.
– «Взял управление», – это второй пилот.
– «Передал управление», – это мой доклад.
Я переключил на него управление триммерами (специальными механизмами, позволяющими снять нагрузки с «ручки»). Когда машина правильно оттриммерована, то если убрать руки с «ручки» управления, её никуда не тянет. Она только упруго отзывается на движения твоей руки. Это работают пружины в системе управления. При слепом полёте это очень важный момент, ведь земли не видно и лётчик может не понять – это вертолёт куда-то тянет, или «ручку».
В темноте за блистером чуть отсвечивают красные вспышки нижнего проблескового маяка, да виден пунктирный круг контурных огней несущего винта. А то и этих проблесков не видать. Я сижу расслабленно в кресле, отдыхаю. Штурман дал команду второму пилоту: «Влево – пять, курс двести семьдесят…». Отозвалась земля, в наушниках голос диспетчера: «21856, на трассе, удаление подтверждаю…». По второму каналу слышен красивый женский голос: «21856, Сургут-радио, пишите погоду по…». Покрутил головой туда-сюда, покивал вверх-вниз, разминая шею. Вроде всё нормально, ощущения правильные, да и все три авиагоризонта синхронно покачивая силуэтами самолётиков, подтверждают – всё нормально, вертолёт летит без крена и не вверх колёсами. В слепом полёте ни в коем случае нельзя доверять своим чувствам, только показаниям приборов, постоянно сверяя их. Хорошо, что я в годы училищные до одури крутился на лопингах и «рейнских колёсах» (это такие специальные снаряды для тренировки вестибулярного аппарата). Поэтому я спокойно себя чувствую в длительном слепом полёте, и мне ничего не кажется такого, необычного. Только через много лет, на пенсии, мой родной бортмеханик за рюмкой чая признался: «Знаешь, Саня, несколько раз бывало. Едем мы в облаках или в снегу по белизне, и вдруг чувствую – вертолёт заваливается на борт. Ужас господен! Потом выгляну из-за своей приборной доски, посмотрю на авиагоризонты, потом на тебя – ты сидишь, спокойно крутишь баранку, я потрясу башкой и всё стало на место!». И грустно улыбнулся. Хотя ничего смешного здесь нет. Просто вестибулярный аппарат запаниковал от недостатка информации, поэтому и стал врать человеку. Кто попадал в такие ситуации, поймёт, о чём я говорю.
Минут через сорок забрал управление у второго пилота, буду сам крутить баранку, а он пусть отдохнёт. Штурман дал команду разворота на новый курс. Плавно поворачиваем вправо, с небольшим креном, градусов десять. Шарик послушно замер в центре трубочки авиагоризонта. Указатель курса медленно проворачивается, курсозадатчик подходит к нужной цифре. Плавно выводим машину из крена, и вертолёт замер на новом курсе, указанном штурманом. Через некоторое время штурман по радиокомпасу и запросом пеленга у диспетчера проверит, на трассе ли мы, и скажет диспетчеру расчётное удаление, а тот подтвердит. Приятно слышать в наушниках голос земли: «…856 – й, удаление подтверждаю, на трассе…». Время от времени я слышу доклад механика: «Осмотр грузовой кабины!». Второй пилот открывает на своей приборной доске специальный щиток, под ним скрываются приборы контроля работы двигателей и главного редуктора. Пока механик будет осматривать вертолёт изнутри фюзеляжа, второй будет смотреть за этими приборами. Слышен хлопок дверей в пилотскую кабину, механик плюхнулся на своё место, второй закрыл щиток и в наушниках я слышу успокаивающий доклад Вити Поздеева: «Грузовая осмотрена, системы герметичны, борт – порядок, остаток топлива 9200…».
Где-то там, далеко внизу земля. Она закрыта от нас толщей облаков, которая начинается в ста метрах от земли и тянется до высоты почти четырёх километров. Там, за облаками есть луна и звёзды, но мы их не видим, мы по-прежнему идём в неприветливой тёмной мгле. Потолок (максимальная высота полёта) вертолёта МИ-6 – четыре тысячи пятьсот метров, я мог бы забраться на эту верхотуру, но зачем? Там скорость придётся убрать до 160 километров в час, согласно руководству по лётной эксплуатации, а значит, я резко потеряю путевую скорость и буду понапрасну жечь топливо. Обледенения в облаках сейчас нет, температура воздуха за бортом нормальная, поэтому едем на своей высоте – 1800 метров. Впереди горы, вот перед ними мы и полезем на высоту три тысячи метров, а пока сохраняем скорость на своём эшелоне.
Нам со вторым хорошо, мы хоть можем меняться и время от времени отдыхать, а вот штурману сейчас туго. Он один в своём «стакане» (застеклённой штурманской кабине в самом носу вертолёта), вот и крутится, глядя на свои приборы, сравнивая показания радиокомпаса, периодически запрашивая пеленги у земли. Ему надо точно вести машину по трассе, не уклоняясь с неё, карта ему сейчас не помощник, ведь земли то не видно, мы идём вслепую.
Начинаем набор высоты три тысячи метров. Добавил режим двигателям и стрелка вариометра показывает устойчивый набор высоты около четырёх метров в секунду. Вот так мы будем ехать вверх пять минут. Я уберу скорость по прибору до 195 километров в час, на такой высоте надо идти с этой скоростью. Вот и забрались мы на трёхкилометровую высоту, приближаемся к горам. В хорошую погоду, да ещё и днём, мы с удовольствием полюбовались бы их величественным видом, но сейчас ночь и облака, мы слепы, как кроты, за стёклами кабины всё та же пелена, которая нам уже порядочно надоела, ведь истекает четвёртый час полёта.
Мы переходим на связь «по направлению», то есть устанавливаем частоту своих печорских диспетчеров. А вот и «здрасте вам», мы уже на своей, западной стороне Уральских гор. Всё-таки приятное ощущение, лететь ещё сто километров, а вроде, как и дома уже.
Вышли из зоны гор, можно снижаться. Диспетчер подтверждает удаление, что мы на трассе, разрешает снижение. Поехали, поставим снижение три метра, скорость – 200 километров в час и катимся, как с невидимой гигантской горки. В ушах начинает покалывать, привычно делаешь глотательное движение. Мы прослушали погоду нашего аэродрома, знаем видимость, высоту нижней кромки облаков, направление ветра у земли. На высоте перехода установили давление аэродрома (штурман, второй пилот и я), сверили показания высотомеров, курсозадатчики установлены на посадочный курс. Штурман, глядя на показания радиокомпаса и слушая подсказки диспетчера, заводит нас по схеме. В наушниках слышен спокойный голос диспетчера: «…856-й, радиальное двенадцать, подходите к третьему, продолжайте заход, к четвёртому занимайте четыреста метров…».
Мы идём по, так называемой, «коробочке» (прямоугольному маршруту захода на посадку). Когда между курсозадатчиком, установленным на посадочный курс и стрелкой радиокомпаса, настроенного на частоту дальнего привода останется небольшой угол, градусов около четырёх, начинаю плавный правый разворот с небольшим креном. Мы знаем ветер по высотам, а его почти нет в этой облачной массе, ветер у земли слабый и дует строго по полосе. Поэтому на глиссаде нас не будет сносить туда-сюда и заход, хотя и по приводам плюс локатор, для нас не представляет сложности.
Вертолёт подходит к точке входа в глиссаду, и я продолжаю заход.
– «856-й, удаление шесть, на курсе, на глиссаде…».
– «856-й, подходите к дальнему, на курсе, на глиссаде…».
Высота двести метров, зазвенели звоночки, и замигала лампочка, проходим дальний, до полосы четыре километра. Мы снижаемся на скорости сто шестьдесят километров в час. Земля где-то рядом, но мы её пока не видим. С этим курсом захода нестандартное положение ближнего привода, река мешает, и он установлен всего в семистах метрах от торца ВПП, вместо положенных тысячи метров.
Быстро-быстро звякают звоночки маркера ближнего привода, в наушниках зуммер сигнала опасной высоты радиовысотомера. Из мутной пелены выплывают огни подхода. Включаем и выпускаем посадочные фары, раньше бы они слепили меня отражённым светом от облаков.
Я чётко вижу огни подхода, огни порога полосы, боковые огни, убегающие вдаль, аж, на тот конец аэродрома. Я плавно гашу скорость, штурман начинает отсчёт: «Скорость сто – высота сорок, скорость восемьдесят – высота тридцать, скорость шестьдесят – высота десять, скорость пятьдесят – высота пять, высота четыре, три, два, один, посадка!». Чуть заметный толчок колёс основного шасси, плавно опускаю нос вертолёта, вот уже колёса носовой стойки коснулись бетонки и вертолёт, замедляя скорость, бежит по полосе. Я выдерживаю направление пробега и начинаю притормаживать машину. Слышно шипение тормозов и тяжёлый вертолёт останавливается, завершая свой пробег. Красота какая! Огни полосы, тёмные деревья за ней, низкое небо над головой, видны огни аэропорта, вертолёты на стоянках, прожектора на осветительных мачтах, свет в окнах домов города. Это же просто праздник какой-то! Организм радуется, вот теперь всё встало на места и можно уже не таращиться на приборы до боли, до отвращения. И ещё одна мысль радует и вызывает гордость: «Ни одна птица не летает вслепую, это может только человек!».