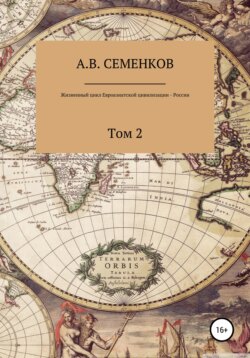Читать книгу Жизненный цикл Евроазиатской цивилизации – России. Том 2 - Александр Владимирович Семенков - Страница 11
ЧАСТЬ 3. Эпоха теократической церковной цивилизации – доминирования Церкви в организации общественной жизнедеятельности Евроазиатской цивилизации – России X–XVI века. «День третий» Фаза зрелости теократической церковной цивилизации XIII–XVI столетия. Теократическая империя
РАЗДЕЛ 6. Глобальный цикл политической организации. Стадия становления политической организации Евроазиатской цивилизации – России XII–XV столетия
ОТДЕЛ 13. Фаза становления: процессы и тенденции формирования учреждений и институций национальной государственности XII–XIV столетия
ГЛАВА 46. Период удельно-вотчинного порядка XII–XIV столетия. Политико-хозяйственная организация общественной жизнедеятельности в удельно-вотчинный период
46.5. Противоречивый характер периода удельного порядка
ОглавлениеН.М. Карамзину более чем 300-летний период со смерти Ярослава I представлялся временем, «скудным делами славы и богатым ничтожными распрями многочисленных властителей, коих тени, обагрённые кровию бедных подданных, мелькают в сумраке веков отдалённых».
В.О. Ключевский таким видит удельный период истории Руси-России: «У Соловьева, впрочем, самое чувство тяжести, выносимое историком из изучения скудных и бесцветных памятников XIII и XIV вв., облеклось в коротенькую, но яркую характеристику периода. «Действующие лица действуют молча, воюют, мирятся, но ни сами не скажут, ни летописец от себя не прибавит, за что они воюют, вследствие чего мирятся; в городе, на дворе княжеском ничего не слышно, всё тихо; все сидят запершись, и думают думу про себя; отворяются двери, выходят люди на сцену, делают что-нибудь, но делают молча». Однако такие эпохи, столь утомительные для изучения и, по-видимому, столь бесплодные для истории, имеют своё и немаловажное историческое значение. Это так называемые переходные времена, которые нередко ложатся широкими и тёмными полосами между двумя периодами. Такие эпохи перерабатывают развалины погибшего порядка в элементы порядка, после них возникающего. К таким переходным временам, передаточным историческим стадиям, принадлежат и наши удельные века: их значение не в них самих, а в их последствиях, в том, что из них вышло» [Ключевский В.О.: Том 1, С. 467. История России, С. 21371].
Многовековое сосредоточенное молчание России, так удивлявшее прытких исследователей, стремившихся мерить ее привычными мерками «просвещенной», многоголосой и многоречивой Европы, есть благоговейное молитвенное молчание внимательного, погруженного в молитвенное делание монаха. Такое молчание преподобный Исаак Сирин назвал «таинством будущего века». Ибо происходит оно не от невежества или лени, а от благодатной полноты религиозного чувства, от сосредоточенной ревности в богоугождении, от изумления и страха перед величием Божиим, открывающимся благочестивому взору смиренного подвижника. Это состояние не нуждается в словесном выражении. Оно вообще не передается словами – оно постигается лишь любящим сердцем. В этом сосредоточенном смиренном молитвенном делании русского монашества заключены самые глубокие основы русского миросозерцания и мироощущения, и здесь мы улавливаем пульсацию сердца России.
Наступление новой исторической эпохи было ознаменовано коренными переменами русской жизни, освоением новых территорий, и появлением новой исторической сцены: Русь Днепровская сменяется Русью Верхневолжской. В первом периоде – эпоху Киевской Руси, главная масса русского населения сосредоточивалась в области Днепра; во втором она обретается в области Верхней Волги. В первом периоде устроителем и руководителем политического и хозяйственного порядка был большой торговый город; во втором таким устроителем и руководителем становится князь – наследственный владелец своего удела; таким образом, волостной город уступает своё место князю, с которым прежде соперничал. Эта двоякая перемена, территориальная и политическая, создаёт в верхневолжской Руси совсем иной экономический и политический быт, не похожий на киевский.
Русь – страна огромная, со скудным сельским хозяйством, где единственными путями сообщения в то время были реки. Эта страна, удаленная от всех международных торговых путей, страдавшая от роста спонтанных перемещений населения, могла ли она решить свои проблемы иначе, нежели допустив широкую децентрализацию, и переложив на местную инициативу заботу о повсеместной и повседневной организации жизни людей в наименее плохих условиях? Но, напротив, необходимость защищать русское государство от внутренних и внешних потрясений, уберечь его от алчных соседей, и положить конец их набегам, – для всего этого требовалось, чтобы государство было централизованным и сильным. Для этого необходимо чтобы в его власти было заставить людей выполнять его требования, чтобы государство было способным мобилизовать все существовавшие ресурсы для достижения своих целей: расширение территории государства, снабжение и защита границ.
Главные следствия удельного порядка можно свести, по мнению В.О. Ключевского, в такую краткую формулу: под действием удельного порядка северная Русь политически дробилась всё мельче, теряя и прежние слабые связи политического единства; вследствие этого дробления князья всё более беднели; беднея, замыкались в своих вотчинах, отчуждались друг от друга; отчуждаясь, превращались по своим понятиям и интересам в частных сельских хозяев, теряли значение блюстителей общего блага, а с этой потерей падало в них и земское сознание. Все эти последствия имели большую значимость для дальнейшей политической истории северной Руси, ведь они подготовляли благоприятные условия для её дальнейшего развития.
Внутренняя противоречивость этой эпохи проявлялась, в частности, и в том, что, с одной стороны, удельные княжества с быстро растущими городами в условиях натурального хозяйства были экономически и политически самодостаточными, мало связанными друг с другом. Но, с другой стороны, появляется и укрепляется их интерес к взаимному сотрудничеству. Осуществлялся выход этих практически самостоятельных государств на внешнеполитическую арену: собственные договоры с прибалтийскими землями, с немецкими городами заключали позднее Новгород и Смоленск; Галич активно вел дипломатические сношения с Польшей, Венгрией и даже с папским Римом.
Это противоречие между логикой децентрализованной власти и логикой централизации, необходимой для того, чтобы обеспечивать продвижение страны вперед и колонизацию новых земель, а так же связанное с географией России и вытекающим из этого поведением людей, впоследствии внесло огромный вклад в формирование русского вотчинного государства и его методов. Тем не менее, влияние этих противоречащих друг другу тенденций так никогда и не исчезнет, и в разные эпохи истории государства можно будет увидеть, как оно балансирует между центробежными и центростремительными тенденциями, между сепаратизмом регионов и постоянными усилиями по объединению. Столетия политической жизни не стерли эту невозможность однозначного выбора между противоположными требованиями, а выработали потребность в балансировании между этими противоположными тенденциями и достижении динамического равновесия между ними.