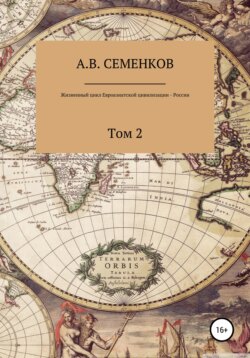Читать книгу Жизненный цикл Евроазиатской цивилизации – России. Том 2 - Александр Владимирович Семенков - Страница 14
ЧАСТЬ 3. Эпоха теократической церковной цивилизации – доминирования Церкви в организации общественной жизнедеятельности Евроазиатской цивилизации – России X–XVI века. «День третий» Фаза зрелости теократической церковной цивилизации XIII–XVI столетия. Теократическая империя
РАЗДЕЛ 6. Глобальный цикл политической организации. Стадия становления политической организации Евроазиатской цивилизации – России XII–XV столетия
ОТДЕЛ 13. Фаза становления: процессы и тенденции формирования учреждений и институций национальной государственности XII–XIV столетия
ГЛАВА 47. Период децентрализованного земского удельно-вотчинного государства XII–XIV столетия. Политико-хозяйственная организация общественной жизнедеятельности в удельно-вотчинный период
47.3. Княжеский удел – государство-вотчина. Частноправовой характер княжеской власти
ОглавлениеИдея государства-земли трансформируется в идею государства-вотчины, княжеской собственности. Князья удельно-вечевого периода были носителями государственной идея и представителями княжеств, мы в то же время не можем игнорировать факта дробления власти: вся русская земля была после Ярослава I разделена на уделы или отдельные княжения, во главе которых стали отдельные князья. Обстоятельство это обусловливалось признанием того принципа, что вся русская земля должна была принадлежать всему княжескому роду, и что каждый князь, как член рода, должен был получить свою часть.
Признавая, что верховная государственная власть по существу своему едина, мы должны в то же время отметить, что в удельно-вотчинный период не существовало русского государства в строгом смысле слова, была лишь русская земля, заключавшая в себе, целую совокупность отдельных самостоятельных политических организаций, или государств. Субъектом верховной власти в таких государствах были или вече, или князь, или оба вместе, смотря по тому, преобладало ли вече, или князь, или установлялось равновесие между этими факторами власти.
Политическое значение государя определяется степенью, в какой он пользуется своими верховными правами для достижения целей общего блага, для охраны общих интересов и общественного порядка. Значение князя в старой Киевской Руси определялось преимущественно тем, что он был, прежде всего, охранителем внешней безопасности Русской земли, вооружённым стражем её границ. Достаточно бросить беглый взгляд на общественные отношения в удельных княжествах, чтобы видеть, что удельный князь имел иное значение. Как скоро в обществе исчезает понятие об общем благе, в умах гаснет и мысль о государе, как публичной власти, а в уделе такому понятию даже не к чему было прикрепиться.
Удельного князя признавали носителем верховной власти по происхождению, потому что он князь. Но он владел известным уделом, именно тем, а не этим, не как дольщик всеземской верховной власти, принадлежавшей всему княжескому роду, а по личной воле отца, брата или другого родственника. Наследственная власть удельного князя еще не могла найти новой, чисто политической основы в идее о государе, блюстителе общего блага, как цели государства. Такая идея не могла установиться в удельном княжестве, где общественный порядок строился на частном интересе князя-собственника, а отношения свободных лиц к нему определялись не общим обязательным законом, а личным добровольным соглашением, т.е. имели частноправовой характер. Не будучи государем в настоящем смысле этого слова, удельный князь не был, однако, и простым частным землевладельцем даже в тогдашнем смысле. Он отличался от последнего политической властью державными правами, только пользовался ими по-удельному. Политическая власть князя в уделе не вытекала из его права собственности на земельные владения, в свою очередь, и его властные полномочия в уделе, не были источником этого права. Как отмечал В.О. Ключевский: «Они достались удельному князю по наследству от неудельных предков того времени, когда каждый князь, не считая себя собственником временно владеемого им княжения, был участником в принадлежавшей Ярославичам верховной власти над Русской землёй. Когда единство княжеского рода разрушилось, державные права удельных князей не утратили прежней династической опоры, уже вошедшей в состав политического обычая …» [Ключевский В.О.: Том 1, С. 474. История России, С. 21378].
Потому, как скоро утвердилась мысль о принадлежности удела князю на праве собственности, его державная власть оперлась на это право и слилась с ним, вошла в состав его удельного хозяйства. Тогда и получилось сочетание отношений, возможное только там, где не проводят границы между частым и публичным правом.
Верховные права князя-вотчинника рассматривались как доходные статьи его вотчинного хозяйства, и к ним применяли одинаковые приемы пользования, дробили их, отчуждали, завещали; правительственные должности отдавались во временное владение, в кормление или на откуп, продавались; в этом отношении должность судьи сельской волости не отличалась от дворцовой рыбной ловли, там находившейся. Так, частное право собственности на удел стало политической основой державной власти удельного князя, а договор являлся юридическим посредником, связывавшим эту власть с вольными обывателями удела [Ключевский В.О.: Том 1. , S. 21379].
Князь-родич XII века, оставшись без волости, не лишался «причастия в Русской земле», права на державное обладание частью земли, следовавшей ему по его положению в княжеском роде. Удельный князь-вотчинник XIV века, потеряв свою вотчину, терял вместе и всякое державное право, потому что удельные князья, оставаясь родственниками, не составляли рода, родственного союза. Безудельному князю оставалось только поступить на службу к своему же родичу или к великому князю литовскому.
Так как в начальные эпохи образования государства идея государственности не могла быть развитой, то и в княжеской власти наряду с чертами публичного характера существовали черты, имевшие частноправовой характер; так, мы видим, что волости или княжения раздавались князьями родственникам, как частная собственность. Суд также имел в значительной степени характер не общественной должности, но частной собственности: он жаловался князьями в кормление и отчуждался в частные руки жалованными грамотами; кормления, с которыми соединялось отправление суда, были своего рода пенсией или вознаграждением за военную службу.
О соотношении частноправового и публично-правового начал в системе управления в удельный период В.Ф. Платонов отмечает следующее: «Историко-юридическая школа дала нам картину частного быта в удельном периоде, понимая этот быт, как подготовительный или переходный к государственному бытию. На основании воззрений этой школы об уделе мы можем сказать, что удел есть территория, подчиненная князю на праве гражданском как частная земельная собственность, т.е. вотчина. Однако некоторые исследователи находили в удельное время явления и понятия государственного порядка и поэтому отрицали исключительное господство в уделе частноправовых начал. На основании их воззрений мы можем сказать, что удел есть территория, подчиненная князю наследственно и управляемая им на основании начал и государственного и частного права, причем различие этих начал князьями чувствуется, но в практике не проводится» [Платонов С.Ф.: Часть первая, С. 107. История России, С. 32352].
Княжеский удел есть территория, подчиненная князю на праве гражданском, как частная земельная собственность, т. е. вотчина. Княжеский удел представлял собой единство политической и хозяйственной организации общественной жизни. Политическая власть – державные права, и экономическая власть – собственность организационно не разъединены, и институционально не оформлены. В княжеском уделе существовало единство «земли», как волости – административной единицы, объекта государственной власти. И «земли», как вотчины – объекта хозяйствования и частного владения, собственности.
Старинная княжеская «волость» заменилась «уделом», которым князь владеет как собственностью, – всякое основание политического единства исчезает, князья уже не имеют привычки вспоминать, что они «одного деда внуки» и что у них должен быть старший, который бы «думал-гадал» о Русской земле. Вопрос относительно образования уделов является спорным. По мнению Н.М. Карамзина разделение Руси на уделы было следствием личной слабости князей, их любви к детям. С.М. Соловьев находил объяснение этого явления в общем праве княжеского рода владеть землею, приобретенною трудами их отцов и дедов; и единством княжеского рода, которому в лице отдельных его членов принадлежало управление всею русскою землею. Пассек и Костомаров придерживались того мнения, что уделы образовались под влиянием стремления городских общин к самостоятельности. Но каковы бы ни были причины образования уделов, этот порядок вещей свидетельствует о раздроблении власти и о частноправовых на нее воззрениях.
Собственнические отношения. Удел северо-восточного князя являлся наследственной земельной собственностью князя, как политического владетеля. Как частный землевладелец, он владел селами, собственность, по типу управления и быта подходящая к простой вотчине, а иногда и совсем в нее переходящая. Княжеские удельные владения были крайне разнообразны по размерам: одни из них были настолько незначительны, что практически ничем не могли отличиться от частного владения, а другие вырастали в громадные области (московский удел в XV веке). Эти-то последние уделы по своим размерам уже заставляют предполагать, что власть их владетелей должна отличаться некоторыми государственными чертами. Поэтому некоторые исследователи находили в удельное время явления и понятия государственного порядка и, в силу этого, отрицали исключительное господство в уделе частноправовых начал. Исходя из этих представлений, мы можем сказать, что удел есть территория, подчиненная князю наследственно и управляемая им на основании начал и государственного, и частного права, причем различие этих начал князьями чувствуется, но в практике не проводится.
По мнению В.О. Ключевского перевес находится на стороне явлений частного права. Хотя он признает политическое значение за княжеской властью, но проявления этой власти считает хозяйственно-административными приемами, а не государственною деятельностью. На основании его воззрений, мы можем сказать, что удел есть вотчина с чертами государственного владения или государственное владение с вотчинным управлением и бытом. В частности, В.О. Ключевский отмечал; «При отсутствии общего, объединяющего интереса князь, переставая быть государем, оставался только землевладельцем, простым хозяином, а население удела превращалось в отдельных, временных его обывателей, ничем, кроме соседства, друг с другом не связанных, как бы долго они ни сидели, хотя бы даже наследственно сидели на своих местах. К территории удельного княжества привязаны были только холопы князя; свободные обыватели имели лишь временные личные связи с местным князем. Они распадались на два класса: на служилых и чёрных людей» [Ключевский В.О.: Том 1, С. 472. История России, С. 21376]
Развивая мысль о частноправовом характере власти удельного князя, В.О. Ключевский отмечал: «Можно понять, какое значение получал удельный князь при таких отношениях. В своём уделе он был, собственно, не правитель, а владелец; его княжество было для него не обществом, а хозяйством; он не правил им, а эксплуатировал, разрабатывал его. Он считал себя собственником всей территории княжества, но только территории с её хозяйственными угодьями. Лица, свободные люди, не входили юридически в состав этой собственности: свободный человек, служилый или чёрный, приходил в княжество, служил или работал и уходил, был не политической единицей в составе местного общества, а экономической случайностью в княжестве. Князь не видел в нём своего подданного в нашем смысле слова, потому что и себя не считал государем в этом смысле. В удельном порядке не существовало этих понятий, не существовало и отношений, из них вытекающих. Словом государь выражалась тогда личная власть свободного человека над несвободным, над холопом, и удельный князь считал себя государем только для своей челяди, какая была и у частных землевладельцев». [Ключевский В.О.: Том 1, С. 474. История России, С. 21378].
И.Е. Забелин рассматривал удельную жизнь с национально-экономической (если можно так выразиться), а не с юридической точки зрения. По его представлению, удел есть личное хозяйство князя, составляющее часть земли, населенной великорусским племенем. Как личные землевладельцы-собственники, интерес которых заключался в увеличении личной, семейной собственности, князья заботились о промыслах, т. е. об увеличении своего имущества, движимого и недвижимого, на счет других князей. Они покупали и захватывали земли, они сберегали для себя ту дань, которая собиралась на татар, а иногда или вовсе, или частью не была им передаваема. Эти заботы о промыслах превращали князей в хищников, от которых страдали интересы их соседей. Для этих соседей договор являлся средством оградить свои интересы от насилия смелого и сильного князя или привлечения его в союз, или уступкой ему некоторых прав и выдачей обязательств.
Знакомясь со всеми существующими взглядами на удел, нетрудно заметить, что у всех исследователей принят один термин для обозначения существа удела. Этот термин – вотчина. Все признают, что этот термин возможен, но все разно определяют ценность этого термина. Одни видят тождество удела и вотчины, другие – только сходство (и то в разной степени). Нетрудно понять также, почему термин «вотчина» привился и имеет право на существование: с развитием удельного порядка, при постоянном дроблении уделов между наследниками многие уделы измельчали и фактически перешли в простые вотчины (как, например, многие уделы ярославской линии князей, в которых не бывало ни одного городка и было очень мало земли).
В вотчине власть князя-собственника распространяется на все, что находится в его владениях; здесь вместо общественной власти устанавливается частная власть князя. Эта власть не безграничная; в отношении к свободным людям, поселенным на земле, она определяется заключаемыми с ними договорами. Но совокупностью своих владений князь-вотчинник распоряжается, как своей частной собственностью. Он делит свою землю по наследству между сыновьями, и тогда общество распадается: из одной вотчины образуются несколько. В распоряжении вотчиной могут иметь место все формы частного договора: вотчина продается, покупается, отдается в залог, в приданое. Впрочем, и здесь могут установиться формы, более или менее близко подходящие к государственным.
Б.Н. Чичерин в статье «Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных» желая определить «физиономию» удельного периода, задает вопрос, исходя из теоретических понятий права: на каком праве создалась удельная жизнь? «Исходная точка гражданского права, – говорит он, – есть лицо с его частными отношениями; исходная точка государственного права – общество, как единое целое». Изучение фактов удельной поры убеждает его, в том, что в удельной жизни господствовало право частное. Князья в своих уделах не различали оснований, на которых владели городами и всей территорией удела, с одной стороны, и каким-нибудь мелким предметом своего обихода, вроде одежды и утвари, – с другой. В своих частных духовных завещаниях они одинаково распоряжались самыми различными предметами своего владения. Отношения между княжествами регулировались договорами, а договор – факт частного права. Стало быть, ни в отдельных уделах, ни во всей русской земле не существовало ни государственной власти, ни государственных понятий и отношений в среде князей; не было их и в отношениях князей к населению. Сословий тогда не было, и каждый член общества связан с князем не государственными узами, а договорными отношениями. Одним словом, удельное общество есть «общество, основанное на частном праве». Впоследствии, путем фактического преобладания одного князя, образуется единовластие и государственный порядок.
Договорные отношения. В России удельные князья становились совершенно самостоятельными владельцами. Они связывались только родственными и договорными отношениями к великому князю, который оставался номинальным главой рода, не имея почти никакой власти над членами княжеского рода. Из двух начал, на которых строится гражданское общество, собственности и договора, последнее имеет характер изменчивый, зависящий от случайной воли лиц; а собственность же, в особенности поземельная, служит источником самых прочных отношений. Поэтому всякий гражданский порядок держится, прежде всего, отношениями собственности. Если это верно вообще, то еще более это имеет силу там, где самый государственный порядок зиждется на гражданских началах. Когда дробление княжеских родов и земель достигло полного развития, и отношения между этими княжескими родами и семьями уже не имели ничего родственного, тогда договорами стали определяться даже отношения родных братьев. Необходимость выстраивания договорных отношений между князьями диктовалась в первую очередь хозяйственными причинами. Договорами определялись и политические взаимные отношения князей, посредством которых достигалось единство их политики по отношению к князьям и внешним врагам Руси.
Если князья договаривались как равноправные владетели, они называли себя «братьями»; если один князь признавал другого сильнейшим или становился под его покровительство, он называл сильнейшего «отцом» или «братом старейшим», а сам назывался «братом молодшим». В XIV и XV веках в договорах появляется понятие княжеской службы: служебный князь в XV веке, не теряя фактически распоряжения вотчиной, становится мало-помалу из государя простым вотчинником и слугой другого князя. По договорам можно проследить, как мелкие князья входят все в большую и большую зависимость от сильных, и, наконец, все впадают в полную зависимость от одного московского князя. При этом удельные князья, передавая свои вотчины великому князю, сознательно передают ему верховные права на их вотчины, сохраняя в то же время в этих вотчинах права державного собственника.
Совокупность князей северо-восточной Руси как бы делит между собой верховную власть, сливая ее права с правом простого землевладения. Будучи все «государями» в своих уделах, князья в то же время зависят один от другого, как вассалы от сюзерена. Только единство зависимости от татар оставалось у различных княжеских семей, а в остальном эти семьи жили особно. Каждая из них, разрастаясь, превращалась в род и, пока родичи помнили о своем родстве, имели одного «великого князя». Изменчивые временные княжения Киевской Руси сменились верхневолжскими суздальскими уделами, наследственными княжествами, которые под верховной властью далёкого нижневолжского хана стали в XIV веке независимы от местных великих князей.