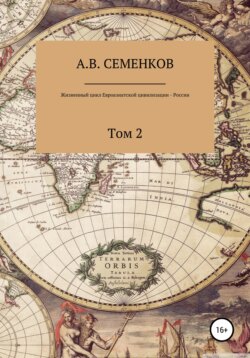Читать книгу Жизненный цикл Евроазиатской цивилизации – России. Том 2 - Александр Владимирович Семенков - Страница 13
ЧАСТЬ 3. Эпоха теократической церковной цивилизации – доминирования Церкви в организации общественной жизнедеятельности Евроазиатской цивилизации – России X–XVI века. «День третий» Фаза зрелости теократической церковной цивилизации XIII–XVI столетия. Теократическая империя
РАЗДЕЛ 6. Глобальный цикл политической организации. Стадия становления политической организации Евроазиатской цивилизации – России XII–XV столетия
ОТДЕЛ 13. Фаза становления: процессы и тенденции формирования учреждений и институций национальной государственности XII–XIV столетия
ГЛАВА 47. Период децентрализованного земского удельно-вотчинного государства XII–XIV столетия. Политико-хозяйственная организация общественной жизнедеятельности в удельно-вотчинный период
47.2. Процессы и тенденции преобразования политического устройства Руси
ОглавлениеПрежде единство земли поддерживалось личностью старшего в роду князя. Теперь единства нет, потому что кровная связь рушится, а государство еще не сформировалось. Есть только уделы, враждующие за материальное преобладание, – идет «борьба материальных сил», и из этой борьбы, путем преобладания Москвы, рождается государственная связь.
Возникали отношения, напоминающие феодальные порядки Западной Европы. Но – это явления не сходные, а только параллельные. В отношениях бояр и вольных слуг к удельному князю многого недоставало для такого сходства, недоставало, между прочим, двух основных феодальных особенностей: во-первых, соединение служебных отношений с поземельными, и, во-вторых, наследственности тех и других. В уделах поземельные отношения вольных слуг строго отделялись от служебных. Эта раздельность настойчиво проводится в княжеских договорах XIV века.
Древнерусское земское государство в XII веке распадается на ряд самостоятельных княжеств. Старая Киевская Русь делилась на княжеские владения по числу наличных взрослых князей, иногда даже с участием малолетних; таким образом, в каждом поколении Русская земля переделялась между князьями. Теперь с исчезновением очередного порядка стали прекращаться и эти переделы. Члены княжеской линии, слишком размножавшейся, не имели возможности занимать свободные столы в других княжествах и должны были всё более дробить свою наследственную вотчину. Благодаря этому в некоторых местах княжеские уделы распадались между наследниками на микроскопические доли, происходило постепенное измельчание уделов.
Древнерусское государство раздробилось на множество самостоятельных удельных «полу-государств», в которых местная знать создала свой государственный аппарат (управление, армия, суд, тюрьмы и т.д.), способный осуществлять власть на местах, проводить некую внутреннюю политику, а также защищать свои уделы и вотчины от внешних врагов и захватчиков. Политическое дробление неизбежно вело к измельчанию политического сознания, к охлаждению земского чувства. Сидя по своим удельным гнёздам и вылетая из них только на добычу, с каждым поколением беднея и дичая в одиночестве, эти князья постепенно отвыкали от помыслов, поднимавшихся выше заботы о хлебе насущном. Удельный порядок княжеского владения вносил взаимное отчуждение в среду князей, какого не существовало среди князей старой Киевской Руси. Где все их отношения держались на том, как один князь доводился другому, отсюда их привычка действовать сообща. Даже счёты и споры, доходившие до вражды, между князьями Киевской Руси, о старшинстве, о порядке владения по очереди старшинства, из-за Киева, больше сближала их между собою, чем отчуждала друг от друга, поддерживали их солидарность.
Среди удельных князей северной Руси, напротив, никому не было дела до другого. Политическому значению удельного князя соответствовал и уровень его гражданского развития. Несовершенный общественный порядок не содействовал совершенствованию гражданских нравов и чувств. Личный интерес и личный договор, составлявшие основу удельного порядка, могли быть плохими воспитателями в этом отношении. При раздельности владения между князьями не могло существовать и сильных общих интересов: каждый из них, замкнувшись в своем уделе, в своей вотчине, имел привычку действовать особняком, во имя личных выгод. О соседе-родиче вспоминая лишь тогда, когда тот угрожал ему или когда представлялся случай поживиться на его счёт. При тяжёлых внешних условиях княжеского владения и при владельческом одиночестве князей, каждый из них всё более привыкал действовать по инстинкту самосохранения. Удельные князья северной Руси гораздо менее воинственны сравнительно со своими южнорусскими предками, но по своим общественным понятиям и образу действий они в большинстве более варвары, чем те. Такие свойства делают для нас понятными увещания, с какими обращались к удельным князьям тогдашние летописцы, уговаривая их не пленяться суетной славой сего света, не отнимать чужого, не лукавствовать друг с другом, не обижать младших родичей. Это взаимное разобщение удельных князей делало их неспособными к дружным и тесным политическим союзам. Княжеские съезды, столь частые в XII веке, становятся редки и случайны в XIII и почти прекращаются в XIV веке.
В.О. Ключевский писал о том, что «удельный порядок был причиной упадка политического сознания и нравственно-гражданского чувства в князьях, как и в обществе, гасил мысль о единстве и цельности Русской земли, об общем народном благе. Из пошехонского или ухтомского миросозерцания разве легко было подняться до мысли о Русской земле Владимира Святого и Ярослава Старого! Самое это слово Русская земля довольно редко появляется на страницах летописи удельных веков» [Ключевский В.О.: Том 1., S. 21391].
Изменение системы государственного правления. Десятичная система сменяется дворцово-вотчинной. Формируется два центра управлений – дворец и вотчина. В каждом из них формируется свой государственный аппарат, поскольку каждый придворный чин являлся государственным чиновником. В этот период изменяется система наследования власти. В XI и XII веках стали заключаться договоры между князьями, в которых все чаще стал закрепляться принцип наследования трона отца сыном. Прежде Русская земля рассматривалась в качестве родовой собственности князей, княжеского кровнородственного клана, находящаяся в их совместном владении. Киевская Русь считалась общей отчиной княжеского рода, который был коллективным носителем верховной власти, а отдельные князья, участники этой собирательной власти, являлись временными владетелями своих княжений. Порядок владения волостями был обусловлен родовыми счетами. Политическое положение каждого князя определялось его положением в роде, а нарушение этого положения другими князьями вело к усобицам. Усобицы шли не за волости, потому что волости не принадлежали одному какому-либо князю, а за порядок владения волостями. В системе этой власти не заметно мысли о праве собственности на землю как землю, – праве, какое принадлежит частному землевладельцу на его землю. Правя своими княжениями по очереди ли, или по уговору между собой и с волостными городами, князья практиковали в них верховные права. Но ни все они в совокупности, ни каждый из них в отдельности не применяли к ним способов распоряжения, вытекающих из права собственности. Не продавали их и не закладывали, не отдавали в приданое за дочерями, не завещали и т.п. Смешение начал государственного и частного, с преобладанием последнего, мы встречаем в устройстве самого удельного общества, в его отношении к князьям, и в формах отправления князьями своих властных функций.
В XII веке начинается разложение родового порядка благодаря младшим городам северной Руси, которые, получая особого князя, более ему подчиняются, чем старые, старшие города, что и позволяет князьям усилить свою власть. Князья, возвышая эти города в ущерб старым, смотрят на них, как на собственность, устроенную их личным трудом, и стараются, как личное владение передать их в семью, а не в род. Благодаря этому родовое владение падает, родовое старшинство теряет значение, и сила князя зависит не от родового значения, а от материальных средств. Каждый стремится умножить свою силу и средства увеличением своей земли, своего удела. Усобицы идут уже за землю, и князья основывают свои притязания не на родовом старшинстве, а на своей фактической силе.
В удельно-вечевой период мы наблюдаем в отношении княжеской власти в России то же явление, какое существовало, приблизительно с этого же времени, в Западной Европе, т.е. дробление власти, хотя причины, обусловливавшие это явление в том и другом случае, были различны. На Западе дробление власти обусловливалось феодализмом, в России – уделами. Причины эти по существу своему различны: феодализм возник в силу господства системы вассальной зависимости и особой системы вознаграждения вассалов за военную службу. В удельном порядке можно найти немало черт, сходных с феодальными юридическими и экономическими отношениями. Но удельный порядок имел под собою иную социальную почву – в эту эпоху еще не происходит закрепощение крестьян и превращение их в рабов, сельское население сохраняет свою подвижность, так как еще не прикреплено к земле. Поэтому эти внешне сходные отношения приводят к образованию различных социально-экономических порядков, обусловливающих различное протекание социально-экономических процессов. Признаки сходства ещё не говорят о тождестве порядков, и сходные элементы, неодинаково комбинируясь, образуют совсем различные общественные формации. При образовании феодализма видим нечто похожее и на наши кормления и на вотчинные льготы, но у нас и те и другие не складывались, как там, в устойчивые общие нормы, оставаясь более или менее случайными и временными пожалованиями личного характера.
Оба процесса, дробя государственную власть в территориальном разрезе географически, локализуя её, разбивали государство на крупные сеньории, в которых державные полномочия соединялись с правами земельной собственности. Эти сеньории на тех же основаниях распадались на крупные баронии со второстепенными вассалами, обязанными наследственной службой своему барону. Вся эта военно-землевладельческая иерархия держалась на неподвижной почве сельского населения – вилланов, крепких земле или наследственно на ней обосновавшихся. У нас дела шли несколько иным путем. Удельный князь правил своим уделом посредством бояр и вольных слуг, которым он раздавал в кормление, во временное доходное управление, города с округами, сельские волости, отдельные сёла и доходные хозяйственные статьи с правительственными полномочиями, судебными и финансовыми правами. Некоторые бояре и слуги, сверх того, имели вотчины в уделе, на которые удельный князь иногда предоставлял вотчинникам известные льготы, иммунитеты, в виде освобождения от некоторых повинностей или в виде некоторых прав, судебных и финансовых. Но округа кормленщиков никогда не становились их земельною собственностью, а державные права, пожалованные привилегированным вотчинникам, никогда не присваивались им наследственно. Таким образом, ни из кормлений, ни из боярских вотчин не выработалось бароний. В истории Московского княжества мы видим, что в XV веке некоторые великие князья стремились поставить удельных князей в отношения как будто вассальной зависимости, но это стремление было не признаком феодального дробления власти, а предвестником и средством централизации государственной власти.
Феодальный момент можно заметить разве только в юридическом положении самого удельного князя, соединявшего в своём лице государя и верховного собственника земли. Этим он похож на сеньора, но его бояре и слуги вольные совсем не вассалы. Бояре и вольные слуги свободно переходили от одного князя на службу к другому. Служа в одном уделе, они могли иметь вотчины в другом; перемена места службы не касалась вотчинных прав, приобретённых в покинутом уделе. Служа по договору, где хотел, вольный слуга «судом и данью тянул по земле и по воде», отбывал поземельные повинности по месту землевладения. В свою очередь князья обязывались чужих слуг, владевших землёй в их уделах, блюсти как своих. Все эти отношения сводились к одному общему условию княжеских договоров: «…а боярам и слугам межи нас вольным воля».
Процесс превращения боярства из военной элиты (дружинников), в класс землевладельцев, вотчинников. В рассматриваемый период происходило оседание дружины на земле, и это приводило к росту политической самостоятельности служилых людей. Одновременно шел процесс передачи в родовую собственность и земель бояр – вотчину. Во главе региональных элит утверждаются местные княжеские династии из различных ветвей Рюриковичей. В каждом княжестве рядом с князем сложились мощные боярские кланы, т.е. группы крупных светских и церковных земельных собственников со своими вассалами. Повсюду выросла верхушка городов, куда, кроме князей, бояр и церковников, входило богатое купечество. В этих городах сложилось политически и экономически могущественное боярство, владеющее богатыми хоромами, окруженными многочисленными хозяйственными постройками. Все они были огорожены крепкими и высокими дубовыми заборами с коваными воротами. Это были настоящие городские твердыни. Внутри таких дворов жили десятки людей. Кроме семьи боярина – младшие дружинники, многочисленная прислуга. Боярам принадлежали на правах вотчины обширные земельные угодья с деревнями, заселенными смердами. Там тоже стояли дворы, полные челяди. Иногда мощное боярство, недовольное своим князем, начинало с ним борьбу и даже устраняло его от власти. В городах и вокруг них располагались земельные владения высших церковных иерархов – митрополита, епископов, церквей и монастырей.
Эта эпоха характеризуется, среди прочего, процессами трансформации великокняжеской дружины: из военной правящей государственной элиты она превращается в вотчинников – региональную элиту, корпоративное боярско-дружинное правящее сообщество. Таким образом, служилый класс становится землевладельческим. В прежнее время и в Киевской Руси были в дружине люди, владевшие землёй. Там сложился и первоначальный юридический тип боярина-землевладельца, основные черты которого долго жили на Руси и оказали сильное действие на развитие и характер позднейшего крепостного права. Но вероятно, боярское землевладение там не достигло значительных размеров, это было обусловлено и тем, что в X–XII веках служилые люди получали от князей денежное жалованье, которое было основным, а зачастую и единственным источником их доходов. Такое положение дел было обусловлено динамичным развитием внешней торговли, которая обеспечивала накопление в руках князей обильных оборотных средств. Значительные поступления денег от торговли в княжескую казну в этот период позволяли содержать многочисленную княжескую дружину.