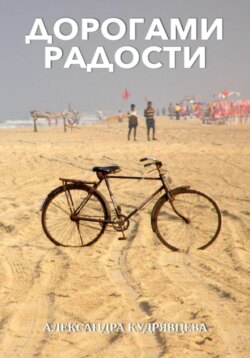Читать книгу Дорогами радости - Александра Владимировна Кудрявцева - Страница 18
Сказка вторая
Дания: Копенгаген, или Глава пятая, в которой автор узнает, что сказки Андерсена не всегда вымысел, а столица – это местами итальянские сады и почти… русская деревня
ОглавлениеДания – это страна, где в конце ноября на улице цветут розы, где по озерам в стужу плавают гадкие утята, где в домах за яркими окнами без занавесок люди, никого не замечая, готовят еду. Уверена, занятые датчане вполне могли бы – совсем не со зла – просто не увидеть голодную «девочку со спичками».
В магазинах все вежливы, улыбаются. Улыбки похожи. Слова – под копирку. Это единственная страна, где нас никто (кроме хозяина апартаментов) не спросил, из какого мы города, откуда приехали на своей машинке со странными номерами. Чужаки – подумаешь – просто никому не интересны. Всем дело только до себя. И только в Дании я видела африканцев за рулем автобусов. Причем в Копенгагене – довольно массово. Кассиров из стран Магриба и, напротив, «из черной Африки», я встречала в супермаркетах и в других странах. Но только в столице Копенгагена я впервые увидела «массовую интеграцию мигрантов» в европейскую действительность.
А какие «породистые» датчане стоят у входа в музей, проверяя билеты! С каким достоинством они продадут вам сувенирку в музейных магазинах! Не удивительно, что билеты в музеи в этой стране показались мне самыми дорогими. А вот привычных нашему глазу бабушек-смотрительниц в залах и галереях нет.
Копенгаген – город с голосом. В центре все время слышишь Ратушу, которая отсчитывает каждые пятнадцать минут. В нашем Фредериксберге в восемь утра церковь громко и настойчиво била в било и возвещала начало рабочего дня. При этом сама она, похоже, в это время была закрыта. Крестов, да и какого-то иного христианского антуража в городе нет: запрещено, чтобы не оскорблять братьев-мусульман и родственников-атеистов. Из церковной атрибутики я разве что позолоченную икону на Ратуше заметила.
При свете дня город перестает быть сказочным – все очень дорого: сосиска на ярмарке – 500-600 рублей на наши деньги, скромная сумка еды в магазине – около четырех тысяч. Неизменны только уверенные в себе велосипедисты. Лютеранским строем, который тут, похоже, уже просто в крови, они спокойно и стремительно (уж побыстрее автобуса) передвигаются по городу.
В Копенгагене мы останавливались на три ночи. Обычная-то наша остановка – две или даже одна ночевка. Но тут путь не ближний, когда попадем еще. Выбор, куда бежать смотреть самое важное в датской столице и где напитываться атмосферой города, был непрост.
Решили так: обязательно погулять вдоль Нюхавна – с XVII века этот канал соединяет море и старый город – Королевскую площадь. Дома тут самые нарядные, самые открыточные. Бродит ветер, дольше всего снуют вечером гуляльщики и чуть слышна музыка ресторанов. Потом проехаться с часовой экскурсией на кораблике (благо, и она входит в музейную карту). С воды город немного другой: здесь не живут на каналах, как в Амстердаме, не толпятся кораблики, как в Питере, не снуют деловые водные извозчики, как в Стокгольме, по крайней мере, поздней осенью.
Вода в Копенгагене не такая правильная, как в тех городах, где доминируют прорытые каналы. Маршрут волнообразен – то по большой воде, то по узким водоёмам, где еще и яхт припарковано немало. Было холодно, с палубы я сбежала минут через 20, но виды понравились. Кстати, знаменитая Русалочка стоит в стороне от основных достопримечательностей, которые находятся в центре города, хотя, конечно, туристические автобусы к ней тоже заворачивают. Но пешком мы до нее не дошли. А с кораблика мы заприметили Русалочку по толпе экскурсантов на набережной, и только потом разглядели саму небольшую скульптуру, сидящую у воды.
Копенгаген истыкан королевскими дворцами. Каждый король стремился построить свой. А новые правители старые дворцы не разрушали. И находили им применение. Сейчас большинство дворцов – одновременно и музеи, и действующие здания государственного назначения. Поэтому непросто было решить, что нам надо посмотреть обязательно, а от чего отказаться.
Королевский дворец Кристиансборг6 находится в десяти минутах пешком от Нюхавна. В разных частях большого здания и поныне заседают кабинет министров, парламент и Верховный суд. А еще нашлось место, куда пустить туристов.
Нам показался Кристиансборг просторным, но не помпезным. Позолоты мало, гербов на каждом шагу, как в стокгольмском дворце, не прилеплено. Посетители ведут себя свободно. Руками ничего не трогают, но, разглядывая сомнительные современные шпалеры с историей, за разговором возлежат на полу.
Каждый день в 11.30 из ворот Королевского сада у дворца Розенборг выходит королевская стража в высоких черных шапках (в таких же, как на классических картинках про оловянного солдатика) и идет по городу. Идет прямо по неогороженный проезжей части ко дворцу Амалиенборг. Посмотреть на это может любой желающий, вот только бежать за солдатами придется быстро.
А можно не караулить солдат у Розенборга, хотя там есть очень приятный садик с ноябрьскими розами, а просто в полдень прийти к Амалиенборгу и посмотреть смену часовых там. Развод караула может начаться и не в час, мало ли что задержит солдат. Формальности тут не в чести. Не то государство.
Когда мы вместе с другими зеваками выстроились в 12.00 посмотреть на мероприятие, солдатиков пришлось ждать еще десять минут. Развод караула у датчан действо долгое, торжественное и громкое. Под первобытный крик разводящего караульщиков у каждого здания сменяют новые часовые. Впрочем, служба по нашим меркам у них непыльная: и болтать на посту можно, и по вверенной территории ходить практически прогулочным шагом.
Амалиенборг – это четыре королевских дворца, стоящих полукругом. Там, в одном из особняков, живет с семьей Маргрете Вторая, с 1972 года – королева Дании. Прапраправнучка нашего Николая I.
В тот день, когда мы пришли к Амалиенборгу, над резиденцией развивался флаг – значит, королева дома. И тем не менее, нас без проблем пустили в соседний дворец-музей посмотреть на экспозицию про правящую династию. Там немало и про наших: Дагмару – Марию Федоровну, жену Александра III, и ее сына, царя Николая II. Да, она оттуда, из Дании. На втором этаже дворца-музея выставлены костюмы для пантомимы, можно даже самому сделать на память карнавальную маску… Зачем они там? Потому что королева Маргрете несколько десятков лет делала костюмы для спектаклей, различных балетов и пантомимы, в том числе и для театра в Тиволи.
На другой день мы пошли посмотреть, что такое эти «Сады Тиволи» – один из старейших парков развлечений в Европе, где на поклон как сценограф выходила и сама королева… Все-таки у нас рождественское путешествие, а рождественской радости мы пока и не испытали. В Хельсинки ярмарок еще не было, Йёнчёпинг – вообще захолустье, да и в Копенгагене самими ярмарками я была, скорее, разочарована. Дорого, как все в Дании, и довольно безэмоционально. Вроде краски яркие, глёгг (глинтвейн) густой, с орешками, изюмом, в красивых маленьких кружках, но уж больно дорог (9–11 евро в пересчете с крон выходит): одну выпьешь, другую уж не возьмешь. Правда, может, датчанам, надо было немножко раскочегариться, а тут самое начало – первые дни после открытия. Да и нам рождественские ярмарки под промозглым дождем вместо мягкого снега были еще не в привычку.
Одна надежда у нас была. На Тиволи7. Туда мы и пошли в мой день рождения.
Копенгагенский «Тиволи», названный так по имени итальянского парка, нашу надежду оправдал. Пошли мы туда вечером, когда стемнело. Специально, чтобы волшебство из-за каждой елки светило ярче. И, вы знаете, помогло. Реально, в темноте всё оживает и ощущение сказки и чуда за поворотом становится явственней.
Конечно, почти за 200 лет в парк проникли современные технологии, но немного. Даже гирлянды в Тиволи электрические, как в детстве, а не светодиодные, как на наших улицах сейчас. Хотя, фонари, конечно, стоят не газовые. Но этим видимые новшества заканчиваются.
Конечно, есть тут и всякие актуальные приспособления, чтоб гномики в домиках двигались и живыми казались. Но современность тут за старину прячется. Стесняется своей новизны. Фишка такая. Чтоб всё, как в детстве, и ожившие мечты рядом.
К Рождеству Парк Тиволи превращается в рождественскую деревню. Пушистые датские ели с большими иголками украшены игрушками. Всюду искрящийся мягкий снег. Если не пытаться сделать из него снежки, и не поймешь, что он искусственный. Иллюминация, действительно, потрясающая. Но пестроты немного: все красно-зелено-белое. Как будто ходишь по маленькому сказочному городу.
За окошками деревянных домиков готовят печенье маленькие тролли. Они все время двигаются, как игрушки в витрине Детского мира в моем детстве. Издалека кажется, что они живые. Днем, может, сказка не так обволакивает того, кто пришел в парк, но вечером даже у взрослого гостя нет вариантов: вокруг него волшебство.
Есть в Тиволи и аттракционы, их двадцать шесть. Но самые страшные – деревянные столетние американские горки – зимой не работают. Многие карусели – только для детей. Конечно, что-то попробовать можно и взрослым.
Правда, мы выбрали только два аттракциона – нам и атмосферы праздничной поглазеть-почувствовать-погулять вполне хватило. Первой была старинная «бросалка на приз»: типа, кидай два шара в лунку, чей шар точнее упадет, всадник того быстрее побежит. Когда муж мой Сережа выиграл у девяти таких же взрослых датчан, я увидела, какие они все еще дети. Многие пришли к этой «кидалке» большими кампаниями, один играет, остальные – болеют. Интересно, что после первый игры и у моего супруга образовалась немаленькая группа поддержки. Кроме меня, за него болел пяток неаффилированных с другими игроками датчан. Просто остановились его поддержать. Ну а в качестве выигрыша Сереже дали механическую игрушку – ходячего снеговика, которого надо заводить ключиком.
Взрослых, пришедших в сказку в парке, много больше, чем детей. Даже на поезде из сундуков по сказкам Андерсена мы ехали в основном со взрослыми. Принцип движения тут похож на поезд в Юнибакене в Стокгольме или в деревне Санты в Рованиеми: мы сели в сундук, пристегнулись, и нас повезли по сказкам Андерсена. Едешь и смотришь – там голый король стоит, там танцовщица перед оловянным солдатиком крутится. Все движутся, и всё под музыку. Будто ты ребенок, и по мультфильму едешь.
Вход в Тиволи для нас был бесплатным, потому что мы уже заплатили за Копенгаген кард, а парк развлечений входит в стоимость. Но вот за сундук мы отдали еще денег, причем оплатить удовольствие можно было только около самого аттракциона и только карточкой. А за лошадок, наоборот, платили монетой, просто кидали ее, и в ответ получали шарики.
Вечером «на счастье» мы встретили королевскую стражу. Положено так, с основания парка. Ходят по Садам Тиволи по двое празднично одетых караульных – в красных мундирах, в высоких шапках. Прогуливаются, и ни с кем не разговаривают. Традиция такая. А кто встретит их – радуется. На счастье, значит.
Загляделись мы на солдатиков, и в театр Тиволи, где сама королева декорации мимам делала, опоздали. Закрылись двери. Эх, надо нам в Сады Тиволи еще вернуться!
А на другой день мы пошли в Христианию8 – свободную страну свободных хиппи в свободном Копенгагене. То ли это головная боль для властей города, то ли их скрытая туристическая гордость (иначе давно б ликвидировали).
Деревня по нашим меркам – абсолютно обычная, как в Псковской области. В основном деревянные дома. У кого-то покосившиеся, у других – добротные, основательные. Только стоит она прямо посреди города, на острове. И живут в ней хиппи. Кто-то без света, а кто-то с большой плазмой. Кто-то выглядит усталым, как наш бомж, кто-то спокойным. Кто-то трапезничает в кафе, а кто-то пошел на поляну покурить траву. Между прочим, многочисленные туристы тоже ее курят. Запах стоит, хоть топор вешай.
Всего в Христиании живеУт порядка тысячи человек. Можно ли «потерять паспорт» и затеряться там? Не знаю. Видимо, зависит от того, примут ли жители Христиании новичка. Ведь у них «каждый индивид ответственен за благополучие всей общины».
Там нельзя ездить на машине, продавать или употреблять тяжелые наркотики, использовать огнестрельное оружие. Где-то наклеены знаки, запрещающие кататься на велосипеде в шлеме или фотографировать. Но запрет «не фотографировать» мы увидели, уже когда зарядка села. Фотографировали, и никто замечаний нам не делал. Правда, «щелкали» мы только пейзаж, не людей.
Нам показалось, что в Христиании есть парадная часть, куда в основном ходят туристы, чтобы что-то купить или сделать украдкой красивые фото на фоне ярких психоделических росписей. Там стоят и индуистские статуи, и буддийские ступы. А есть места, где обитатели Христиании живут не напоказ – кто-то семьей, а кто-то коммуной. Так получилось, что вначале мы свернули именно туда. Мы видели, как христианцы готовят, пропалывают огород, метут двор. Чем-то мне это напомнило наши трудовые студенческие лагеря, когда ты вроде как работаешь не из-под палки, потому что молод и идеен, но заниматься общественно-полезным трудом всё одно не очень-то и хочется.
Что до домов-избушек, благополучным городским европейским туристам, думаю, это в диковинку. Ну, а мы, не раз проехав по России-матушке, только подумали, сколько всего тут нам знакомого.
Говорят, что хиппи продают свои поделки задешево, тем и живут. Не видели. Репринты с картин – да, были, как и рынок дешевых китайских хозтоваров. Всё недорого, и, конечно, не по банковской карточке. Еще говорят, что сюда боится заглядывать полиция. Ну, может, и боится, но заглядывет. Сами видели. Приехала большая полицейская машина, оттуда вышла дюжина рослых сотрудников правопорядка, и они пошли к площади, где было больше всего народа. Полицейские выстраивались вдоль дороги, шагов через пять друг от друга в направлении напротив толпы. И стали как будто кого-то высматривать. И хотя они были тут явно в меньшинстве, как-то это стало походить на облаву. Мы быстренько ретировались.
Стресс заели Смёрребрёдом. Настоящим. Это местная кулинарная достопримечательность. Хотя, на самом деле, просто бутерброд. Тебе делают его долго и пафосно, а потом ты это творение кулинара-дизайнера быстро ешь, чтоб он не вытек и не рассыпался. Я съела с селедкой, Сережа – с треской.
Потом мы пошли в музей Андерсена. Он оказался фикцией. Даже говорить не о чем. Пусть Ганс-Христиан родился не в Копенгагене, но работал же! Музей Андерсена мог бы стать брендом города. Нехорошо, товарищи датчане! Видимо стыдятся, что плохо принимали великого сказочника.
В финале этого длинного дня (до Христиании и музея Андерсена утром мы сходили на развод караула и в Амалиенборг) был зоопарк. Белый мишка уже спал, панда спряталась, лишь арктический лис бегал по вольеру. Ну а нам что? По Копенганген кард уже уплачено, можно просто сунуть нос и вдохнуть новогоднюю атмосферу одного из старейших европейских зоопарков (1859 год). Атмосфера показалась морозной. Мы попили глинтвейну, посмотрели иллюминацию. И пошли восвояси, благо наше жилье было в двух автобусных остановках от зоопарка.
6
Первый замок на этом отдельном острове построили еще в XII веке, но в XV веке здание было разрушено войсками Ганзейского союза. Тот барочный дворец, который стоит на острове Слотсхольмен сейчас, закончили строить в XVII веке.
7
Парк «Сады Тиволи» радует датчан и туристов аж с 1843 года. Карстенсен – основатель садов Тиволи – смог использовать на аудиенции у короля верные аргументы. Он сказал монарху: «Когда народ развлекается, он забывает о политике». В ответ Кристиан VIII дал ему землю в самом центре Копенгагена. Был в этих садах и Уолт Дисней. Прогулявшись с супругой по «Садам Тиволи», он решил открыть в Америке свой парк, который поначалу просвещенные посетители так и именовали: «американский Тиволи».
8
Вольный город Христиания существует с 1971 года, с того момента, как группа хиппи нелегально вселилась в заброшенные казармы. Сейчас каменных построек на острове хиппи немного – в них по большей части торгуют или трапезничают.