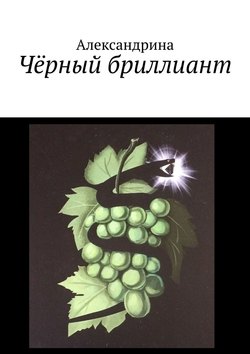Читать книгу Чёрный бриллиант - Александрина - Страница 4
Глава 2
Зональная больница. Старая Перечница
ОглавлениеПосле окончания института меня распределили в небольшую зональную больницу в 120 километрах от Риги. Таких, к сожалению, в Латвии уже не осталось.
Больничка вместе со службой «скорой помощи» размещалась в трёхэтажном каменном здании, в живописнейшем месте, на берегу Даугавы.
Неподалёку находился небольшой базарчик, куда местные жители свозили свою продукцию, кафе-бар и маленький продуктовый магазинчик.
Поскольку свободными помещениями больница не располагала, меня временно разместили в кабинете главврача, коим оказалась пожилая женщина, прошедшая боевую закалку и отточившая мастерство хирурга на фронтах Великой Отечественной войны, Галина Семёновна Кожевникова. Она была довольно грузной, седовласой особой с крутым нравом и грубым прокуренным голосом.
– Ну что, милочка, надолго к нам? – спросила она, не вынимая папиросу изо рта, как только я появилась на пороге её кабинета.
– На два года, – робко ответила я.
Сделав глубокую затяжку и выпустив дым через ноздри, Галина Семёновна бесцеремонно произнесла, тыча в меня двумя пальцами с зажатой между ними папиросой:
– Так и знай, сбежать раньше я тебе не позволю. Два года отработаешь как миленькая. А там посмотрим. Жить пока будешь в моём кабинете. Подъём в семь. Надеюсь, полчаса тебе хватит привести себя в порядок. Полвосьмого должна освободить кабинет. Поняла?
Я кивнула, подумав при этом: «Вот влипла, так влипла!»
– Ну, тогда ступай, – сказала она смягчившимся голосом, наверное, заметив недоумение в моих глазах.
Когда я уже взялась за дверную ручку с намерением не просто выйти, а пулей вылететь из кабинета, забыв спросить, куда ступать и что делать дальше, услышала за спиной окрик.
– Да, вот ещё что. Постельное бельё и халат получишь у сестры-хозяйки, Аусмы, в хозяйственном блоке.
Аусма оказалась милой женщиной лет шестидесяти.
– Ну что, не понравилась вам наша Старая Перечница? – спросила она приветливо с латышским акцентом.
Я неопределённо пожала плечами.
– Да вы не обращайте внимания. Это она только с виду такая грозная. Последние несколько лет никто больше, чем на полгода, здесь не задерживался. Вот она и злится. Я работаю с ней уже лет пятнадцать. Добрейшей души человек. Вот увидите, она вам понравится, – сказала сестра-хозяйка, протягивая мне халат. – А за бельём зайдёте позже.
Я поблагодарила её, и, надев халат, робко постучала в дверь главврача.
– Войдите! – прорычала та и без предисловий перешла к делу.– Сейчас пойдём на обход. Покажу тебе наших пациентов. Потом сделаешь перевязки, оформишь истории болезней. И ступай на приём в поликлинику, на первом этаже. Вия в курсе.
Операционный блок находился в правом крыле второго этажа, а палаты и ординаторская – в левом. Весь стационар состоял из шести палат, на пять-шесть пациентов каждая: по две терапевтические и хирургические, одна гинекологическая и одна палата для детей.
В сопровождении дежурной сестры, Нади, мы направились в хирургические палаты.
Галина Семёновна, подходя к каждому пациенту, сначала справлялась у него о самочувствии, затем выслушивала доклад медсестры о произошедших изменениях в состоянии каждого больного за истёкшие сутки. А потом уже, обратившись ко мне, озвучивала диагнозы и тактику лечения.
После обхода Старая Перечница, как называла её Аусма, хотя и любя, как мне показалось, торопливо накинув поверх халата лёгкий плащ, направилась к выходу, где её уже ожидала больничная легковушка, на ходу давая мне последние распоряжения:
– Если будут поступать по «скорой», осмотришь, назначишь анализы. В неясных случаях направляй в стационар. Приеду, разберусь. Мне нужно отлучиться на пару часов в район.
Галина Семёновна умела обходиться без лишних слов. Её речь состояла из кратких распоряжений. У меня сложилось впечатление, что она вообще не умеет нормально говорить, а может только давать указания.
Выполнив порученную мне работу в отделении, я направилась в так называемую поликлинику, которая располагалась в левом крыле первого этажа и состояла из нескольких кабинетов для приёма пациентов разного профиля, лаборатории, рентген-кабинета, регистратуры с двумя рядами стульев вдоль стен и небольшой аптеки.
К приёмному покою примыкала небольшая комната для дежурного врача, где он мог отдохнуть в отсутствие пациентов. Был также санитарный «пропускник», где проводилась санитарная обработка пациентов, поступающих в стационар, и комната отдыха для дежурной бригады, состоявшей, как правило, из фельдшера и водителя. Полагался ещё санитар. Но они всегда были в дефиците. Поэтому фельдшерам, двое из которых были молоденькими девушками, недавно окончившими медучилище, было нелегко. Им приходилось таскать по этажам тяжёлые сумки с медицинскими инструментами и медикаментами, а порой вместе с водителем нести и самих пациентов в машину «скорой помощи», нередко спуская их с последнего этажа многоэтажного дома.
Найдя дверь с табличкой «хирург», я вошла внутрь. Слева за столом сидела приятной наружности моложавая женщина лет сорока. На ней был накрахмаленный халат, я бы сказала, ослепительной белизны, и такая же шапочка, из-под которой выбивались завитушки белокурых волос, игриво падая на лоб. Мелкие черты лица и слегка подкрашенные розовой помадой губы придавали лицу кукольное выражение.
Она широко улыбнулась мне, вставая из-за стола, и, подавая правую руку, произнесла:
– Вия.
– Очень приятно, – представившись и пожав её руку, ответила я, усаживаясь на свободный стул напротив.
Начался приём. В нашем кабинете была небольшая операционная для мелких манипуляций, автоклав для стерилизации перевязочного материала и инструментов и гипсовочная, где накладывались гипсовые лонгеты и повязки при неосложнённых переломах, после вправления вывихов и растяжения сухожилий.
Вия была отменной медсестрой. Она умела делать практически всё: накладывать гипсовые лонгеты, вскрывать гнойники, делать перевязки любой сложности. Она же выписывала направления на анализы и обследования, а также оформляла больничные листы, что в значительной степени облегчало мою жизнь.
Мне же оставалось только подписаться и поставить печать. В мои обязанности входил осмотр пациентов, краткая запись в медицинской карточке и указания медсестре – кого куда направить и кому какую манипуляцию сделать.
Таким образом, вся практическая часть была на ней, за исключением некоторых мелких операций, вправлений вывихов, репозиций переломов, пункций суставов и новокаиновых блокад.
Вия не раз выручала меня, когда возникала необходимость в моём присутствии на большой операции в стационаре. На неё всегда и во всём можно было положиться.
В этот день приём начинался во второй половине дня, с двух часов. Как раз к его окончанию вернулась Галина Семёновна. К моему сожалению, ни один кандидат на операцию не поступил. Я доложила обстановку. Кажется, Старая Перечница осталась довольной.
В восемь часов вечера она, наконец-то, покинула свой кабинет. Я вздохнула с облегчением, и вошла внутрь. Едкий запах табачного дыма, стоявшего, как говорится, столбом, ударил мне в нос. «Какую гадость она курит!» – подумала я, увидев в мусорной корзине смятую пачку Беломорканала.
Распахнув окно, почувствовала как свежий речной воздух, смешанный с ароматом флоксов и каких-то других цветов проникает в комнату. Окна были обращены прямо на Даугаву, протекавшую буквально в пятидесяти метрах от больницы, открывая чудесный вид.
Был прекрасный тёплый вечер. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в розово-сиреневые тона. Поверхность воды казалась неподвижной, почти зеркальной.
Я надела купальник, набросила лёгкий ситцевый халатик и направилась к реке.
Посреди больничного двора был разбит альпинарий. Удивительно с каким вкусом он был устроен. Между цветными камнями выглядывали разных видов анютины глазки, разнообразные сорта лилейника, горицвета и жимолость с её неповторимым ароматом. Справа от входной двери росла глициния с висящими соцветиями. А по обеим сторонам от входа в качестве вазонов стояли два трухлявых пенька с разноцветными петуниями.
Почти у края берега заметила деревянную, слегка облупившуюся от солнечных лучей, беседку, увитую клематисом с белыми и сиреневыми цветочками.
«Это просто райский уголок!» – с восторгом подумала я. – Если бы не эта Старая Перечница, спокойно можно было бы работать и наслаждаться жизнью».
Спустившись к реке, сначала опустила босую ногу в воду, нагретую жарким летним солнцем, и, найдя её просто восхитительной, зашла поглубже и поплыла.
Смеркалось. Золотой шар опускался за горизонт, золотя верхушки деревьев на противоположном берегу реки и оставляя на воде золотистую дорожку, освещавшую быстро передвигающиеся круги, сопровождающиеся тихими всплесками воды.
Оказалось, это резвилась мелкая рыбёшка, время от времени выскакивая наружу, поблёскивая своими серебристыми спинками, и на лету ловя мошкару.
Выйдя из воды, я обтёрлась грубым казённым полотенцем, выданным мне Аусмой в личное пользование.
На берегу меня поджидал жирный чёрный кот с лоснящейся шерстью и мяукал. Его я заприметила ещё днём у беседки, развалившимся на солнышке и потягивающимся от удовольствия.
– Наверное, тебя кто-то подкармливает рыбкой? Не по адресу ты, дружок, обратился. Я не умею ловить рыбу, к сожалению, – сказала я ему. Кот, как будто поняв меня, поднял хвост трубой и с чувством собственного достоинства пошёл прочь. А я направилась в своё временное пристанище.
Хотя полностью запах табака выветрить не удалось, потому как он накрепко въелся и в шерстяные занавески, висевшие на окнах, и в обивку дивана и двух кресел, в комнате посвежело.
Я включила свет и начала изучать обстановку. У левой стены стоял старый трёхметровый то ли секретер, то ли сервант. Верхние полки были застеклены. За стеклом рядами были поставлены книги, некоторые в старых, изрядно потрёпанных переплётах, в основном по медицине. Ниже располагались три выдвижных ящичка, один из которых был пустым. В него-то я и положила всякие мелочи и предметы гигиены. Ещё ниже обнаружился пустой ящик с дверцами. «Наверное, специально для меня освободили», – подумала я, приятно удивившись.
Между сервантом и окном обнаружился довольно узкий платяной шкаф. Так что и для верхней одежды нашлось место.
К окну был придвинут большой письменный стол с ободранными ножками, покрытый сверху оргстеклом, под которым лежал календарь и графики дежурств персонала, а на нём – куча историй болезней, пластмассовый стаканчик с остро отточенными карандашами и ручками.
Мой взгляд упал на слегка пожелтевшую фотографию, находившуюся за стеклом в деревянной рамке на подставке. На ней улыбался белокурый мальчик лет трёх, державший в руках огромного плюшевого медведя и удивительно походивший на Старую Перечницу. «Наверное, её внук», – подумала я.
У правой стены стоял изрядно потёртый диван, два кресла такого же вида и журнальный столик, покрытый кружевной салфеткой, а на нём – глиняная ваза со свежими полевыми цветами.
На противоположной по отношению к окнам стене с одной стороны от входной двери висела огромная карта мира, а с другой – выступала полусфера металлической печки, топка которой находилась снаружи.
Застелив диван чистой простынёй и втянув подушку в наволочку, я улеглась, накрывшись серым байковым одеялом в посеревшем от времени пододеяльнике, заведя будильник на шесть часов утра.
Через тонкую прозрачную занавеску, колыхавшуюся от дуновения лёгкого ветерка, был хорошо виден серебристый диск полной луны, а через полуоткрытое окно – отчётливо слышен лёгкий плеск прибрежной волны. Полоска лунного света, проникающего в комнату, не давала заснуть.
Задвинув плотные шторы, повернулась лицом к спинке дивана и уже начала засыпать, как услышала шум машины, въезжающей в больничный двор. Привезли больного. Моментально вскочив с постели, наскоро оделась, и, накинув медицинский халат, спустилась в приёмный покой.
На кушетке лежал молодой человек лет двадцати пяти. Он держался за низ живота и слегка постанывал. Возле него уже хлопотала дежурная врач, ощупывая ему живот и одновременно давая указания дежурной медсестре:
– Померь температуру под мышкой и ректально, и возьми полный анализ крови.
Та, кивнув головой, побежала выполнять данные врачом распоряжения.
Дежурная врач была женщиной далеко не первой молодости. Но густой румянец на щеках, который, по моему мнению, был не к месту, придавал её лицу цветущий вид. Оказалось, что она болела «красной волчанкой». И мне, узнав об этом, потом было стыдно за свои мысли.
Мы представились друг другу. Зента Яновна оказалась женщиной серьёзной, но доброжелательной и, я бы даже сказала, чуткой. Её цепкий взгляд ухватывал такие мелочи, которые другие не замечали. Поэтому она слыла хорошим диагностом.
Закончив осмотр пациента, Зента Яновна повернулась ко мне:
– Пожалуйста, коллега. Кажется, он по вашему профилю.
Я подошла к больному, собрала анамнез, посмотрела язык, ощупала живот. Было похоже на острый аппендицит с перфорацией отростка и диффузным перитонитом. Диагноз подтвердил и анализ крови, который к концу моего осмотра уже был готов.
Позвонила Галине Семёновне, доложила о больном. Через полчаса она уже была на месте. Осмотрев пациента, Старая Перечница подтвердила мой диагноз и строгим голосом, обращаясь к дежурной медсестре, произнесла: «Готовь к операции!» – А мы с тобой пока чайком побалуемся, а заодно и побеседуем, – сказала она, повернувшись ко мне, и, легонько подталкивая в нужном направлении, увлекла в свой кабинет.
Наполнив чайник водой из графина и поставив его на электроплитку, Галина Семёновна начала выкладывать на столик содержимое тумбочки.
– Чего стоишь? Присаживайся. Не робей. В ногах ведь правды нет, – отрывисто произнесла она. – Тебя, кажется, Татьяной зовут?
Я утвердительно кивнула головой.
– Онегин, я скрывать не стану. Безумно я люблю Татьяну, – пропела Старая Перечница, чудовищно фальшивя.
Заварив чай, который по виду больше напоминал чифир, Галина Семёновна наполнила им свой стакан в подстаканнике, а мне подала на блюдечке в чашке.
При взгляде на это пойло мне стало не по себе. На голодный желудок меня и от обычного-то чая тошнило. Поэтому я робко попросила кофе.
Валяй! – сказала главврач, криво усмехнувшись, продолжая прихлёбывать свой чифир, чередуя глотки с затяжками «Беломорканала».
«Как она может себя так гробить?» – подумала я.
Будто прочитав мои мысли, Старая Перечница произнесла, вытаскивая из полупустой пачки очередную папиросу:
– А мне терять нечего.
– А разве это не ваш внук? – я кивком головы показала на фотографию, стоящую на столе.
Бережно взяв фотографию в руки и тяжело вздохнув, она произнесла с нежной грустью:
– Ванечка- мой сыночек.
На её глаза навернулись слёзы, но совладав с собой, Галина Семёновна поставила фотографию на место и внезапно разоткровенничалась:
– Я ведь, Танюша, коренная ленинградка. До войны отец работал инженером на литейном, мать преподавала в школе русский язык и литературу, а я училась в Первом меде имени Павлова. На втором курсе к моему сокурснику Славке приехал брат Николай, который в то время учился, – она на мгновение задумалась, стараясь при этом как можно аккуратнее стряхнуть пепел в старую керамическую чашку без ручки, стоящую на поручне кресла и выполняющую роль пепельницы.
– Сразу и не вспомнишь, в Ленинградской военно-теоретической школе Красного Воздушного Флота, кажется, так называлось это заведение, – с чувством удовлетворения, наконец, произнесла Галина Семёновна.– Славка познакомил меня с ним, высоким кареглазым брюнетом с мужественным лицом и ослепительной улыбкой, которая тотчас же меня пленила. На следующий день, выходя из института, я увидела Николая. Он сидел на скамейке в сквере с букетом цветов, поджидая меня. Мы начали встречаться. Ходили в кино, наслаждались в местных забегаловках ароматным кофе со свежеиспечёнными булочками, а потом долго гуляли по набережной Невы, держась за руки. Я была влюблена в него по уши. Жизнь казалась прекрасной и многообещающей. Но две недели, которыми ограничивалась его побывка, быстро пролетели. Николай уехал продолжать учёбу в Павловское, где располагалось его училище. Наши встречи стали редкими, но мы часто писали друг другу.
Я внимательно слушала Галину Семёновну и наблюдала, как преображается и светлеет её лицо, как светятся глаза. Передо мной сидел совсем другой человек – добрый, ранимый, с мягкими нотками в хотя и прокуренном голосе, с хорошо поставленной речью.
Между тем, Галина Семёновна продолжала:
– Через полгода, Николай сделал мне предложение, и мы сыграли студенческую свадьбу, как раз во время каникул, хотя родители были категорически против. Считали, что сначала нужно закончить институт. К концу третьего курса у меня родился Ванечка. Академический я брать не стала. Мама помогла.
За год до начала войны муж уехал в Серпухово продолжить своё образование в Высшей военной – авиационной школе воздушной стрельбы и бомбометания, Стрельбоме, как её называли курсанты, а оттуда прямиком на Северо-Западный фронт.
Аккурат к началу войны и я закончила институт, и, вопреки категорическим возражениям и даже мольбам мамы, ушла на фронт, оставив на неё трёхгодовалого Ванюшку. Отец ушёл добровольцем несколькими днями раньше.
Галина Семёновна внезапно замолчала, закуривая очередную папиросу.
– Если бы я только знала. Если бы я только знала, – сокрушённо повторяла она, будто могла что-то изменить в своей судьбе.
Я, затаив дыхание, слушала, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить ход её мыслей.
– Восьмого сентября 1941 года, – продолжала Галина Семёновна, – немецкая группировка Норд вышла с севера к ладожскому озеру, а финны подошли с юга, взяв город в кольцо. В этот же день был разгромлен городской склад с продовольствием. Выдавали по 125 грамм хлеба на человека в сутки.
Мама пошла работать на Кировский завод, выпускавший танки для фронта, оставляя Ванечку со своей соседкой, пожилой женщиной, тётей Шурой. Однажды она не вернулась с работы, попав под очередную бомбёжку. А Ванечка умер от дистрофии.
Чтобы похоронить человека в блокадном Ленинграде, нужно было отдать полторы буханки хлеба – 500 граммов стоил гроб, столько же доставка на кладбище и услуги гробовщика. Так что, я даже не знаю, где похоронены мой Ванечка и мама. Обо всём этом я узнала от чудом выжившей тёти Шуры, после прорыва Невского пяточка в январе 1944 года.
В 1943 пришла похоронка на мужа, а в 1945 – на отца, – с горечью заключила она, казалось, намеренно истязая себя болью тяжёлых воспоминаний.
– Вот ведь как бывает. Всю войну прошла. Ни одной царапины. А Ванюшка мой с мамой… – она запнулась. – Да что там говорить. Все слёзы уже давно выплаканы. Зачем я это тебе рассказываю? Ты уж меня прости.
– Ну что вы, Галина Семёновна. Человеку иногда нужно с кем-то поделиться. Моей бабушке Ане с мамой тоже не сладко пришлось во время войны, – поддержала я разговор. – Сначала они пережили страшные бомбёжки и оккупацию Старой Руссы, где в то время проживали, а потом и ужасы Саласпилсского концлагеря.
В самом начале войны за город шли ожесточённые бои. Дом, где они жили, находившийся на окраине города, обстреливался практически каждый день то с одной, то с другой стороны. У моей бабушки была чудотворная икона Иверской Божьей Матери. Каждый раз, когда начинались обстрелы, она брала икону и ставила в то место, откуда велась стрельба. За всё время войны в дом не попал ни один снаряд.
Когда немцы вошли в город, один из офицеров поселился в бабушкиной квартире. Дорогой оклад с иконы он снял и, желая продемонстрировать меткость в стрельбе, выстрелил в неё, как раз в то место, где была изображена стекающая по щеке струйка крови. Через три дня его не стало.
– А что стало с иконой? – заинтересовалась Галина Семёновна.
– Бабушка закопала её в палисаднике у дома в одном месте, а другие ценные вещи – в другом. Самое интересное, когда они с мамой вернулись в Старую Руссу, которая была практически стёрта с лица земли, обнаружили, что закопанные вещи были разграблены, а икона осталась целой и невредимой. Сейчас она находится в доме моей младшей сестры в Москве.
Я заметила, как Галина Семёновна всё больше заинтересовывается моим рассказом.
– Как же твоя бабушка с мамой попали в лагерь? – спросила она.
– Когда Красная Армия начали наступление, немцы в срочном порядке стали вывозить всё самое ценное, а то, что не успевали увезти, уничтожали на месте. Часть жителей они угнали в Германию, а часть, в том числе и мою бабушку с мамой – в Саласпилсский лагерь.
– А твой дедушка?
– Дедушка Сергей был дворянского происхождения. Во время конфискации Советской властью имущества семьи, его матери удалось кое-что припрятать. В голодные годы, то ли в 32-м, то ли в 33-м году, он сдал серебро в торгсин, чтобы купить продукты. Очевидно, это было не то серебро, которое разрешено было сдавать. На него донесли. Дедушке дали десять лет лагерей без права переписки. Родственникам даже не удалось узнать, в каком лагере он находился.
Через какое-то время бабушка получила ответ на очередной запрос с известием о смерти её мужа. Маме тогда было года три или четыре, а её братику, умершему в младенчестве, едва исполнился год. Дедушка так и не узнал, что у него родился сын.
От его матери невестке, то есть моей бабушке, достались фамильные драгоценности, а точнее то, что от них осталось – одна серёжка и колье, которое и спасло им с мамой жизнь.
Галина Семёновна внимательно слушала меня, ходя взад и вперёд. Пачка Беломорканала была уже почти опустошена, и окружающие предметы мне казались расплывающимися в сизой дымке.
Я понимала, что заинтриговала её. Поэтому, не дожидаясь очередных вопросов, продолжила:
– Когда мама с бабушкой вместе с другими женщинами и детьми прибыли в лагерь, их разместили по баракам. Лагерь находился за тройной оградой колючей проволоки. Людей там истязали непосильным трудом, морили голодом, подвергали физическим пыткам и унижениям. Над детьми проводили эксперименты, брали кровь для нужд немецкой армии.
Комендант лагеря, Курт Краузе, натравливал на заключённых свою овчарку. Как рассказывала бабушка, однажды она чуть не попала под его шальную пулю – у Краузе было хобби стрелять по узникам лагеря из окна своего кабинета.
Случайно бабушка узнала, что зажиточные латыши, имевшие большие хутора с десятками гектаров земли, брали из числа заключённых людей, которые батрачили на них. Она решила во что бы то ни стало встретиться с начальником лагеря и уговорить его отдать их с дочкой какому-нибудь хозяину в батраки в обмен на фамильные драгоценности. И ей удалось это сделать.
Бабушка была очень мудрой женщиной. Конечно же, она прекрасно понимала, узнай Краузе о том, что в старом саквояже, набитом всяким барахлом, находится колье, стоящее целое состояние, она бы не прожила и пяти минут. Поэтому пообещала расплатиться в тот момент, когда они с дочкой будут покидать лагерь. Сказала, будто выкуп должна принести её дальняя родственница.
Немец ничем не рисковал. Он был прекрасно осведомлён о том, на какой хутор каждый хозяин везёт своих батраков.
Через два дня за бабушкой с мамой приехал хозяин по фамилии Лапса. В момент отбытия из лагеря она достала колье из второго дна саквояжа и отдала его коменданту.
У хозяина жилось нелегко. Бабушка работала в поле. Вся работа по дому тоже легла на её плечи. А мама пасла коров, возвращаясь ежедневно с исколотыми сухой травой в кровь босыми ногами. Обуви не было. К середине осени, правда, хозяин выделил ей резиновые сапоги.
Но, несмотря на все трудности, ни мама, ни бабушка никогда о нём плохо не отзывались. По крайней мере, он хорошо кормил своих батраков. И в конце концов, хоть и косвенно, спас их от неминуемой смерти, – закончила я свой рассказ.
Галина Семёновна, покачав головой и тяжело вздохнув, произнесла:
– Да. Сколько человеческих судеб искалечила эта треклятая война!
Кажется, за эти 30—40 минут, пока больного готовили к операции, мы узнали друг о друге больше, чем за всё последующее время нашей совместной работы.
Вошла Надя и объявила:
– Всё готово. Больной на столе.
Часы показывали два часа ночи.
Мы поднялись и направились в операционную. В «предбаннике» одели операционные рубашки, шапочки и маски.
Тщательно вымыв руки и подняв их вверх, как учили нас в институте, я проследовала вслед за шефиней, как с некоторых пор стала уважительно называть Галину Семёновну про себя, и встала слева от больного.
Движением глаз она показала, что мы меняемся местами. Я посмотрела на неё с одной стороны недоумевающим, с другой – испуганно-умоляющим взглядом. Но она была непреклонна.
Перейдя на правую сторону и неимоверным усилием воли уняв дрожь в коленях и руках, я взяла корнцанг с тампоном, поданный операционной сестрой, опустила его в банку со спиртом и начала обрабатывать операционное поле.
Больной уже был под наркозом, что показалось мне странным. Я не слышала, чтобы кто-то вызывал анестезиолога. Позднее я поняла, что фраза «готовить к операции» означала в том числе и вызов анестезиолога при необходимости.
Операционные сёстры каким-то непостижимым образом знали, когда операция будет под наркозом, а когда под местной анестезией.
Когда операционное поле было подготовлено, операционная сестра помогла нам одеть стерильные халаты и перчатки. Операция началась. Галина Семёновна держала крючки, стараясь обеспечивать максимальную видимость, время от времени давая ценные советы.
Отросток, к моему счастью, находился в типичном месте, но с перфоративным отверстием на верхушке, что и вызвало гнойный перитонит.
После удаления аппендикса нужно было эвакуировать гной из брюшной полости, залив туда около трёх литров физраствора с Диоксидином, и осушить потом большими марлевыми салфетками.
– Не забудь оставить два дренажа и назначить антибиотики, – сказала шефиня, когда операция подходила к концу.
Я кивнула.
– Рану зашьёшь с Иреной. Она опытная сестра. Если что, поможет, – добавила она, снимая халат и перчатки.
Через десять минут операция была закончена. Санитар Янис, который дежурил в этот день, вылил на меня целое ведро воды, вызвав моё недоумение, так как я понятия не имела о такой традиции посвящения в хирурги. Сначала я даже обиделась на него. Весь персонал вокруг смеялся и хлопал в ладоши, особенно Янис. Немного смутившись, я тоже засмеялась.
Переодевшись в сухую одежду, написала протокол операции, дала распоряжение дежурной медсестре относительного больного и, воодушевлённая и счастливая, направилась в свою обитель.
Было четыре часа утра. Спать оставалось не более трёх часов. Но заснуть было не так-то просто. Уж слишком много впечатлений принёс мне первый рабочий день.
Ворочаясь с боку на бок, я мысленно анализировала детали операции, думала, правильно ли наложила кисетный шов и погрузила культю отростка, хорошо ли промыла брюшную полость и поставила дренажи…
Галина Семёновна больше не казалась мне таким уж монстром. Её внешняя суровость была просто защитной реакцией человека, прошедшего все ужасы войны и потерявшего всех самых близких и дорогих людей. Работа стала её спасательным кругом, позволяющим удержаться на поверхности, не погрузившись в бездну отчаяния. Больше никогда, даже мысленно, я не называла её Старой Перечницей даже, если она делала, как мне казалось, несправедливые замечания в мой адрес или повышала голос.
Под утро я задремала.