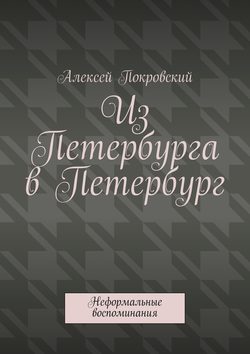Читать книгу Из Петербурга в Петербург. Неформальные воспоминания - Алексей Покровский - Страница 16
Это было, было и прошло…
Глава 3. ЧТО БЫЛО ПОТОМ. Школьные годы
ОглавлениеЯ не помню точно, в каком году и почему мама устроила меня в школу на Песочной улице (ныне ул. проф. Попова), в то время как школы были и ближе. Сейчас в этом помещении находится одно из зданий Института гриппа.
Хоть школа и находилась сравнительно далеко (для первоклассника), туда я ходил один. В один из солнечных сентябрьских дней у самой школы ко мне подошли с ножом старшеклассники и потребовали денег. Вряд ли они у меня были, но я испугался и убежал домой. На этом мои посещения данной школы закончились.
Но тут мама устроилась работать наблюдателем на метеостанцию (об этом я писал в первом разделе воспоминаний). Естественно, ни в какую школу я не ходил, потому что там ее просто не было. Но читать и считать мама меня научила.
Когда мы вернулись в Ленинград, встал вопрос о моем обучении. Я почему-то захотел поступить в Нахимовское училище. Мама, естественно, этого не хотела, но и мне не запрещала хотеть. И мы пошли в Нахимовское училище. Я остался снаружи, а мама пошла внутрь. Через некоторое время она оттуда вышла и сказала, что в училище берут только детей, у которых отцы погибли на войне, или детей Героев Советского Союза. Меня это объяснение вполне удовлетворило, и я больше об этом не думал.
Поскольку я любил музыку и часто пел дома, мама решила устроить меня в школу при Капелле, где директором был друг моего дедушки Палладий Андреевич Богданов. Он меня прослушал, сказал, что я подхожу, но поскольку я еще не учился в школе, направил нас к завучу. Тот сказал, что взять меня в третий класс не может, – только во второй. На это мама не согласилась, ибо у меня уже был потерян один год – я должен был бы учиться в четвертом классе.
Тогда мы пошли в ближайшую школу №55, расположенную на Левашовском проспекте. Но и там директор не захотел брать меня в третий класс. Однако нам повезло: в коридоре нас увидела учительница третьего класса Зоя Михайловна Митрофанова. Поговорив с нами, она предложила взять меня в школу без всяких документов, просто вписать меня в журнал – и всё. Так и сделали. Через некоторое время директор сменился. Я в школе прижился и проучился там до десятого класса. В результате в характеристике, выданной мне при окончании школы, было написано, что в этой школе я проучился все 10 лет.
Вплоть до 10 класса наша школа была мужская. Школьной формы не было – одеты были все кто во что горазд. У большинства детей не было отцов. Нищета была такая, что наиболее нуждающимся выдавали талоны на одежду – брюки, пиджаки, обувь. В классе всегда было несколько переростков-второгодников, а один мальчик был даже из колонии. Время от времени возникали «стычки» – драки с выяснением отношений до первой крови. Но я не помню какого-то садизма, жестокости. Сегодня подрались – завтра помирились.
Как мне сейчас кажется, не было в классе и антисемитизма. Даже во время борьбы с космополитизмом и «дела врачей» я не помню травли на школьном уровне – у нас были свои проблемы, не касающиеся государственной политики. Конечно, многое зависело и от учителей, которые не заостряли наше внимание на политических вопросах. Пионерская и комсомольская работа проводилась на учебном и общеобразовательном уровнях.
Что касается меня, то я никогда не занимался чисто пионерско-комсомольской работой. Много лет я был старостой класса, регулярно помогал в учебе отстающим. Учителей помню хорошо: одни были лучше, другие хуже, но не помню, чтобы мы кого-нибудь ненавидели, чтобы они нас унижали, несмотря на то, что мы были, конечно, не сахар.
В младших классах, как я уже упоминал, у нас преподавала Зоя Михайловна Митрофанова – молодая приятная добрая женщина. Она была не очень грамотна (даже я это замечал), но для младших классов ее знаний вполне хватало. Главное – она была справедлива и любила детей.
В 4 классе нашим классным руководителем стала Елизавета Дмитриевна – полная противоположность Зое Михайловне. Это была очень строгая, суровая дама. Всё в ней было хорошо, но как-то не хватало теплоты.
И вот однажды она предложила нам написать сочинение о современной деревне. А я никогда в деревне не был и сельскую жизнь представлял только по кино («Сельская учительница», «Кубанские казаки» и пр.). Поэтому я взял старый дореволюционный детский журнал и прочитал жалостливый рассказ об одинокой старушке Пелагее, которая жила впроголодь в разваливавшемся домике в такой же умирающей деревне.
Прочитав это, я написал подобное сочинение, не указав, в какое время всё это происходило.
Елизавета Дмитриевна (умная женщина) сказала, что я написал не совсем то, что надо было, исправила грамматические ошибки и вернула мне сочинение, не поставив отметки и не показав никому мою тетрадь. Я совсем не подозревал, что абсолютно правильно отобразил послевоенную советскую деревню.
В младших классах у нас были уроки рисования и пения. Это, конечно, была профанация! Учителей данных предметов мы в грош не ставили, делали на их уроках что хотели, а те на нас не обращали внимания. Уроки рисования я не помню совсем, а вот пения запомнились. В школе был совершенно расстроенный рояль с неработающими клавишами, и старушка учительница, повернувшись к нам спиной, ударяла по клавишам пальцами и что-то во весь голос пела. Я музыку любил, постоянно слушал ее по радио, поэтому такие уроки мне, естественно, не нравились и никакую любовь к классической музыке нашим ученикам не прививали.
С 5 класса появилось много новых учителей. Многие из них были профессионалы – так что на школьную подготовку жаловаться не приходилось
Историк Яков Моисеевич, по прозвищу Пончик, – невысокий кругленький человечек, прошедший войну. Историю он знал хорошо, преподавал интересно. Если я что-то и помню из Древней истории и истории Средних веков, то только благодаря ему. Он был доброжелательный, хотя мы иной раз и выводили его из себя, и ему приходилось на нас повышать голос, однако он быстро остывал и на нас никогда не отыгрывался.
Часто мы над ним незлобно подшучивали (например, поздравляли с международным женским днем), но он не обижался. Как-то, когда в прессе расползлись слухи о забрасывании американцами в СССР колорадских жуков, чтобы отравить наш советский картофель, мы проделали следующую штуку. Взяли гибкую проволоку, согнули ее в виде буквы П и к концам приделали резинку с расположенной посередине пуговицей. Затем пуговицу закрутили и завернули всю эту конструкцию в бумагу. А на уроке сказали Я.М., что нашли колорадского жука, и спросили, не хочет ли он его посмотреть. Когда он развернул бумагу, пуговица завертелась, и конструкция запрыгала по столу. Я.М. от неожиданности вздрогнул, но рассмеялся вместе с нами.
Учителем биологии была Алла Дмитриевна Квасникова. Она была ничем не примечательна. Запомнился лишь один ответ ученика на заданный ею вопрос:
– Как происходит процесс дыхания у человека?
Ответ:
– Человек вдыхает через нос и рот кислород и выпускает углекислый газ через заднепроходное отверстие.
В средних классах классным руководителем был у нас учитель физики Фёдор Александрович по прозвищу Рубильник (поскольку обладал носом, как у Гоголя). Благодаря ему физику мы знали неплохо. Он весьма оригинально излагал материал. Например, объясняя что-либо из раздела электричества, он говорил:
– Когда обыватель включает свет….
Я всегда интересовался электротехникой и прикладной электроникой, поэтому, когда в школе организовали радиоузел, то во главе его поставили Фёдора Александровича, а меня назначили его заместителем. Я уже не помню, чтó мы передавали по местному радио. Думаю, ничего интересного. В памяти остался лишь один курьезный случай.
Фёдор Александрович говорил, что ему очень нравится гимн Советского Союза. У нас, конечно, была пластинка с записью гимна. И вот как-то с одним из одноклассников и Фёдором Александровичем на большой перемене мы вошли в радиоузел, заперли дверь и предложили Фёдору Александровичу послушать внутри радиостудии гимн. Он согласился, а мы включили трансляцию на всю школу (хорошо, что это было уже после смерти Сталина!). Все подумали, что будут передавать важное правительственное сообщение. Но тут прибежал директор – стучал в дверь, а нам не было слышно. Наконец мы открыли дверь и выключили проигрыватель. Самым удивительным было то, что никто из нас не пострадал.
В старших классах нашим классным руководителем стал математик – Александр Иванович Антонов. Это был молодой человек, прошедший войну, тихий, скромный, порядочный, добрый. У него был только один недостаток: он неважно знал математику. Если он не мог что-то решить, то у кого-то консультировался и на следующий день показывал, как надо решать ту или иную задачу. Он странно иногда заменял букву «о» на букву «у» – например, слово «одинаковый» произносил, как «удинаковый». Но мы воспринимали это нормально и никогда не смеялись над ним. Уже после того, как мы закончили школу, Александр Иванович стал ее директором.
Литературе нас учила хмурая, неулыбающаяся женщина – Тамара Филаретовна Недоливко. Любви к ней мы не питали, но думаю, что по тем меркам она была неплохой, «правильной» учительницей. Помню, у одного ученика она отобрала книгу, которую тот читал во время урока.
И – о ужас! Это оказался запрещенный И. А. Бунин. Родителей вызвали в школу, но большого скандала не затевали. Когда в газетах появилось крошечное сообщение о смерти Бунина, я спросил Тамару Филаретовну, издадут ли Бунина у нас.
– Никогда у нас не издадут этого буржуазного писателя! – сказала она. А через год был издан малюсенький сборник рассказов И. Бунина.
В 10 классе я под руководством Т.Ф. организовал литературный кружок. Нашу школу тогда (с 1 по 9 класс) объединили с девочками. Мы стали выпускать стенгазету, в которую я писал критические статьи, а девочки печатали стихи. Несколько раз мы устраивали встречи с писателями. Запомнились две встречи – с Евгением Шварцем и популярным тогда у молодежи писателем Германом Матвеевым, автором повестей «Зеленые цепочки» и «Семнадцатилетние». Время от времени я проводил тематические вечера, на которые приносил проигрыватель и грампластинки с классической музыкой.
Небольшое время русскому языку и литературе нас учила преподавательница по фамилии Мякота – странная женщина, всегда в перекрученных чулках. От нее в памяти осталась только одна фраза: «Он меня обманИл».
Ну и, наконец, две учительницы немецкого языка (забыл их имена и отчества). Первая, в младших классах, была суровая, истеричная женщина, вторая – спокойная, уравновешенная. Надо отдать им должное: язык они знали прекрасно и преподавали его хорошо. Мы много переводили, читали адаптированную и неадаптированную немецкую классику.
До сих пор в памяти осталась песня Миньоны из «Вильгельма Мейстера» Гёте, которую мы учили наизусть:
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
In dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steit —
Kennst du es wohl?
Dahin, dahin
Möcht’ ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!…
Ты знал ли землю, где цветут лимоны,
Где апельсинов жар в листве зелёной,
И синь небес, и миртов аромат,
И кипарисы тёмные стоят?
Ты знал её?
Туда, любимый мой,
Хотела б я перенестись с тобой! (Пер. Эрнста Левина)
Правда, разговаривать мы так и не научились. Зато в институте у меня не было никаких проблем с немецким языком – и я абсолютно без напряжения сдавал «тысячи». Но после института я занялся английским, а немецкий совершенно забыл, хотя кое-какие слова иной раз и всплывают.
Я не помню, как мы в школе питались. Некоторые, конечно, приносили бутерброды. Я, наверное, нет. Значит, ходил в столовую. Обычно, если кто-то доставал бутерброд, то к нему кто-нибудь подскакивал и говорил: «Рубани» (т. е. дай кусочек). Конечно, все делились. Это были правила хорошего тона. А вот еще одно жаргонное слово, которое сейчас исчезло из употребления, – «огольцы», т. е. пацаны. А слово «пацаны» носило нейтральный оттенок – просто мальчишки.
Классе в седьмом или в восьмом мы захотели научиться танцевать. Откуда-то появился здоровый мужик, назвавшийся учителем танцев. Он собрал с нас деньги и сказал, что будет учить нас танцевать бальные танцы (па-де-катр, па-де-патинер и пр.). Также он пообещал: когда мы немного подучимся, он приведет девочек – и мы уже будем учиться танцевать с ними. Это, конечно, нас вдохновило. Он провел одно занятие и… исчез.
Когда мы стали постарше, то сами как-то научились танцевать танго и фокстрот. Теперь мы уже собирались в нашем саду и танцевали вместе под патефон, который был у меня.
Помню школьные вечера, которые устраивались по государственным праздникам и на Новый год. После торжественной части и концерта начинались танцы, обычно под радиолу. Но иногда приглашали музыкантов. Особенно мы радовались, когда в составе музыкальных инструментов был саксофон, почему-то заклейменный буржуазным инструментом и изгнанный из симфонических оркестров, несмотря на то, что у признанного композитора Глазунова был концерт для саксофона с оркестром. Еще одним из любимых нами инструментов был аккордеон (не баян). После войны появилось много немецких аккордеонов, вывезенных из Германии.
В детстве я хотел заниматься музыкой – играть на фортепиано, – но возможностей не было. Наконец в 7 классе я пришел во Дворец пионеров на прослушивание и спел «Колыбельную» Моцарта. Мне проверили слух, спросили, на каком инструменте я хотел бы играть. Я назвал скрипку, но мне отказали из-за слишком большого возраста: научат меня играть, и я сразу уйду.
Тогда мама купила мне гитару и самоучитель. Я попытался научиться играть самостоятельно, но через некоторое время бросил.
А во Дворец пионеров я ходил в радиотехнический кружок.
В свободное от учебы время Инга, Алек, я и наши одноклассники собирались либо дома у Инги и Алека или в саду, и развлекали себя как могли: играли в настольные игры, шарады, прятки, чижик, лапту, штандер. С Алеком мы мастерили луки и стреляли в цель, делали детекторные приемники. В один прекрасный день у Маслаковцев оказался красивый профессиональный, еще дореволюционный лук. Играть с ним было одно наслаждение!
Я знал множество фокусов и любил показывать их на наших детских праздниках. А когда учился в младших классах и часто оставался один, то развлекал себя сам. Так, я сделал из картона театр, вырезал фигурки и ставил спектакли, в которых сам был и режиссером, и актером, и зрителем.
В какой-то момент у меня появился котенок. Чья это была инициатива и где я его взял, не помню. Но прожил он у меня недолго. Вышел из прачечной погулять – и его загрызли собаки. Еще у меня жил как-то ежик. По ночам он очень топал и шуршал газетами. Не помню, сколько времени он у меня прожил. Больше животных в детстве я не заводил.
В 50-е годы очень была развита шпиономания. Благодаря пропаганде и фильмам типа «Ошибка инженера Кочина», «Партийный билет» и т. д. мы считали, что наше общество наводнено шпионами, которые передают западной разведке наши секреты. Их надо выискивать и обезвреживать. И вот мы с Алеком ходили по улицам и внимательно следили за подозрительными личностями, шли за ними по пятам. Но так ни одного шпиона не разоблачили. Хорошо, хоть это для нас было только игрой, которая быстро закончилась!
Оказывается, не мы одни этим занимались. В книге Л. Улицкой «Детство 45—53: а завтра будет счастье» есть воспоминание Альбины Огородниковой-Ястребовой на эту тему:
После войны было много разговоров, публикаций в газетах и передач по радио о врагах Советского Союза, шпионах, скрывающихся среди нас. «Люди, будьте бдительны: враг есть и среди нас!» – слышали и читали мы с утра до вечера. Дети по своей природе очень впечатлительны, поэтому мы были под гипнозом этой пропаганды.
Моя подруга Нина Соболева и я мечтали встретить шпиона, выследить его и раскрыть его преступные планы. Часто после школы мы бежали на базар, очень близко от школы, внимательно вглядывались в многочисленных нищих – ведь они могли скрывать под своими лохмотьями радиопередатчик!
Однажды нам повезло. Неподалеку от школы мы увидели Его: со стороны базара шел нищий. Разноцветные вязочки, тряпочки болтались на его поясе, веревки; рваная одежда была надета одна на другую – из-за этого он казался большим, толстым. На голове красовалась шляпа, надетая на зимнюю шапку, из-под нее свисал на шею цветной лоскут… Мы с Ниной радостно взглянули друг на друга: шпион! Уж мы не упустим его; наверняка в его лохмотьях спрятан передатчик, по которому он, улучив момент, переговаривается с американцами! Пропустив его вперед, прячась за деревьями, за углами домов, мы двинулись следом, боясь пропустить момент, когда он начнет доставать свой аппарат и передавать азбукой Морзе свои донесения. Азбуку Морзе мы немного изучали в кружке в школе, поэтому сразу бы догадались, что к чему. Очень мы не хотели, чтобы шпион передавал сведения о нашем городе американцам, – у нас ведь угольные шахты!
Мама работала в Военно-Медицинской академии на кафедре ортопедии. Там очень часто лечились балетные артисты, поэтому я знал имена тогдашних солистов Мариинского и Малого оперного театров. Время от времени они давали концерты для пациентов, на которые приходил и я. Кроме того, пациентам часто показывали кинофильмы. Хорошо работал и клуб академии. Там часто устраивались сборные концерты ведущих артистов Ленинграда и Москвы. Мне запомнилось, что когда в клубе устраивались профсоюзные или какие-то подобные конференции, мама приносила мне бутерброд с красной икрой.
К еде я был равнодушен. Ели мы обычную пищу. Поскольку у нас не было холодильника, мы покупали продукты по 100 граммов – масло, сыр, колбасу. Сразу после войны помню американские продукты, присылаемые в СССР по ленд-лизу, – ветчину в банках, яичный порошок, сушеную картошку. Но мне нравилась только ветчина. А вот когда я бывал дома один, я любил читать книгу, отрезать маленькие кусочки твердокопченой колбасы (если она была, конечно), выковыривать и выкидывать жир, а мясо сосать. Или брать яйцо, иголкой проделывать в нём дырочку и медленно высасывать содержимое. А затем в стакан наливать воду, делать насыщенный раствор соли и опускать туда пустую скорлупу. Через некоторое время яйцо становилось твердым. Ну а на сладкое – в банке со сгущенным молоком проделывать две дырочки и медленно его высасывать.
Получилось прямо как как в «Денискиных рассказах» – что я люблю!
Любил я проводить и «научные эксперименты» – растапливать воск и делать свечки, опуская в него нить, растворять медный купорос (и где я его брал?) и опускать туда железный гвоздь, наблюдая, как он покрывался медью, и др.
По всяким научно-популярным книжкам я научился делать оригами. Правда, тогда я не знал, что это так называется.
Благодаря маме я с детства следил за своими зубами: регулярно ходил к зубному врачу – сперва к частному, потом в обычную поликлинику. Вот походы к частному врачу мне запомнились. Пожилая (по моим детским понятиям) женщина-врач жила в знаменитом огромном доме на Кировском (Каменноостровском) проспекте. Мама с ней познакомилась, вероятно, еще до войны. Жила она в большой коммунальной квартире в первой от входной двери комнате. Приходили «тайно», как шпионы, поскольку частная врачебная деятельность не приветствовалась. В комнате стояло зубоврачебное кресло с ножным приводом для бормашины. Какая уж тут тайна от соседей, когда звук ее был слышен в коридоре! Несмотря на запреты, высокие налоги и визиты фининспекторов, частная деятельность в СССР существовала.
Особое место в жизни занимал поход в баню – дома ведь мыться было негде. Поблизости было две бани: на Карповке и Разночинные. Я предпочитал последние, поскольку там были отдельные душевые кабины. Баню я не любил (не мыться, а само помещение и ритуал). Я ходил туда с чемоданчиком, в котором лежали мочалка, мыло, полотенце и одежда. В общем зале-раздевалке бельё укладывалось в шкафчик, а номерок на веревочке привязывался к руке. Затем надо было пойти в «помывочную». Были и парные, но я туда не ходил. «Помывочная» – это громадный зал с каменными скамьями и множеством кранов с горячей и холодной водой. Вначале брались жестяная шайка для мытья тела и тазик для ног. Затем они ошпаривались под краном с горячей водой. Следующий этап – ошпаривание скамьи, а затем уже само мытьё. И вот тут наступало самое для меня неприятное. По правилам хорошего тона полагалось тереть и мыть незнакомому человеку спину. Естественно, что потом этот человек тер спину тебе. Поскольку мне это не нравилось, я стал ходить в душевое отделение, хоть там и приходилось сидеть в очереди. Ну а в очереди зато можно было читать!
А еще я любил ездить с мамой в гости к немногочисленным родственникам и знакомым, с которыми мама поддерживала отношения. Мне очень были интересны люди прошлого, которые рассказывали о жизни в царское время, о театральной жизни до и после революции, о писателях и книгах. Параллельно я любил рассматривать книги, изданные до революции, альбомы с репродукциями. Таких людей становилось всё меньше и меньше, но память о них у меня осталась навсегда. У каждого из них были очень интересные биографии. К сожалению, сейчас я уже не могу связно рассказать о них, многое улетучилось из памяти.
Помню Елену Ивановну Нефедьеву. Она жила в малюсенькой комнатке в коммунальной квартире на Съезжинской улице. Знаю, что муж ее был репрессирован, а сын работал начальником отделения в одном из НИИ Ленинграда. Елена Ивановна работала с мамой в ВИЭМе лаборанткой. У нее сохранилось немного старых книг. Знаю, что в 20-е годы она интересовалась искусством, театром, была знакома с известными режиссерами.
Еще одна мамина знакомая – Нина Владимировна Стаммер. Она была дочерью известного врача, профессора Военно-Медицинской академии. Ее старшая сестра тоже стала врачом – доктором медицинских наук. Такую же стезю отец прочил и младшей дочери, но она видела себя только в искусстве. Втайне от отца она поступила на какие-то курсы и стала выступать в балетных спектаклях. Когда отец узнал об этом, то разразился большой скандал, но делать было нечего – пришлось смириться. Позже она вышла замуж за художника Вадима Рындина (будущего главного художника Большого театра и некоторое время мужа Г. Улановой), родила дочь Машу, и они еще перед войной разошлись. Маша тоже стала художником, но жизнь ее сложилась неудачно.
После войны или во время войны Нина Владимировна вышла замуж за военного врача В. Э. Стаммера и родила дочь Надю. Некоторое время они жили в Германии, а потом вернулись в Ленинград. У Нины Владимировны были очень хороший вкус и безумная любовь к балету, а также невероятная энергия. До самой своей смерти она работала с детьми в разных клубах: ставила спектакли, проектировала и шила костюмы. Затем привлекла к этому делу дочь.
Я очень любил бывать в их гостеприимном доме. Это была настоящая петербургская интеллигентная семья, где люди умели интересно проводить время. После смерти Нины Владимировны я несколько раз общался с Надей, но потом знакомство сошло на нет.
Постепенно родственные связи рвались: некоторые родственники умирали, с другими мы переставали общаться, поскольку было много проблем в жизни. В результате сейчас с новыми поколениями родственников уже потеряны все связи.
От мамы мне передалась любовь к книгам. Читал я много, но мне хотелось иметь свою библиотеку. Несмотря на то, что лишних денег у нас никогда не было – жили от зарплаты до зарплаты, – как-то удавалось хоть немного денег тратить на книги. Это и заложило начало нашей сегодняшней библиотеки, насчитывающей более 3000 книг. Я регулярно ходил в книжные магазины – если не покупать книги, то смотреть их, перелистывать. Помню, когда открылся книжный магазин на Большом проспекте Петроградской стороны у памятника Добролюбову, я пошел туда в день открытия. Там фотограф сунул в руку мне какую-то книгу и сфотографировал меня. На следующий день эта фотография была опубликована в газете «Ленинградская правда». Правда, качество фотографии было такое, что если бы я не знал, что там изображен я, то себя бы не узнал.
Газета «Ленинградская правда», 18.08.1954
Первые подписные издания, которые у нас появились, – это собрания сочинения М. Горького и Н. В. Гоголя. На них подписалась мама. Когда я стал постарше, то подпиской стал заниматься сам. Это было сложное, но интересное занятие. Количество экземпляров подписных изданий в магазинах было малым, а желающих много. Поэтому у книжных магазинов собирались очереди, велись списки, люди приходили раз в месяц отмечаться, так как заранее было неизвестно, когда назначат подписку. Накануне же подписки люди по очереди дежурили всю ночь. Один раз, когда была подписка на Жюля Верна, я был старшим по очереди и дежурил всю ночь.
Как я уже говорил, моя любовь к книгам приводила к тому, что я несколько раз в неделю ходил по книжным магазинам Петроградской стороны и наведывался в Дом книги. Особенно я любил посещать букинистические отделы. С вожделением смотрел на четырехтомник Жуковского, «Мертвые души» с рисунками Далькевича и на другие дореволюционные издания, но купить их, конечно, не мог. Таких денег у меня не было.
Как ни странно, на меня положительно повлияли доклад Жданова и постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946). Эта тоненькая брошюра сохранилась у меня до сих пор. О Зощенко и Ахматовой я знал, а вот о других реакционных авторах начала века я узнал именно от Жданова, и поэтому стал интересоваться ими. Вот, например, один отрывок из доклада Жданова:
…Перехожу к вопросу о литературном «творчестве» Анны Ахматовой. Ее произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке «расширенного воспроизводства». Это так же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Фёдора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и т. д. и т. п., т. е. всех тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве.
Получается, что уже в 9 лет я критически относился к официальной пропаганде.
В 1950 году из Ташкента в Москву переехал жить мой двоюродный брат Женя Кастальский. Он сразу после школы ушел на войну, дошел до Берлина. После войны приехал в Ташкент, где жила в эвакуации его мама – Ксения Александровна. А оттуда, женившись во второй раз, он переехал к своей второй жене Але в Москву, вернее – в Подмосковье. Аля тоже прошла всю войну, работая радистом. Она была сирота и жила на втором этаже барака в малюсенькой комнатке у самых железнодорожных путей станции Перово, тогда пригорода Москвы. Они жили там втроем: Аля, Женя и тетя Ксеня. Женя в то время заканчивал геологический факультет Московского университета. В том же году Женя с Алей приехали к нам в гости в Ленинград. Я не отходил от них ни на шаг – мне очень не хватало мужского общества, а Женя мне очень нравился. Мы с ним были очень близки, потом эта близость перешла к его сыну Серёже. К сожалению, оба они умерли очень рано.
Женя после университета поехал работать на Сахалин, потом – под Магадан. Проработав там долгое время, построил квартиру в Москве и вернулся туда работать в Министерстве геологии. Умер он от рака легких в возрасте 55 лет.
Вот что я написал в 1990 году:
В детстве мы воспитывались на любви к несчастным неграм и рабочим, жестоко эксплуатирующимся капиталистами («Хижина дяди Тома», «Дорога свободы» Говарда Фаста, рассказы А. Мальца, «Мистер Твистер» С. Маршака и удивительно долго живущий на сцене балет «Аистенок»). В реальной жизни я видел только одного негра – актера Тито Ромалио; иностранцев же знал только по трофейным фильмам.
И вот ко мне в гости из Москвы впервые после 1941 года приехал мой двоюродный брат Женя Кастальский. Он хотел показать свой родной город молодой жене и повидаться с нами.
Было жаркое лето. Полупустой город. В Ленинграде, несмотря на прошедшую войну и разрушения, еще оставался петербургский дух. Так, молодую жену моего брата очень порадовало и совсем не обидело замечание петербургской старушки. В Елисеевском магазине, купив яблоки, молодая женщина тут же их попробовала.
– Что вы делаете?! – воскликнула старушка. – Разве можно есть в магазине?!
Причем это было сказано не с целью обидеть, а с желанием помочь.
Но я отвлекся. Перед отъездом брат решил шикануть, и мы днем пошли обедать в ресторан гостиницы «Астория». Я думаю, не стоит говорить, что до этого я еще ни разу не был ни в каком ресторане, не говоря уж о таком шикарном. Огромный (с моей точки зрения) и совершенно пустой зал, вышколенный официант, великолепная еда…
И тут в зал вошли два иностранца среднего возраста, говорившие по-английски. В самом разгаре холодной войны я, настоящий пионер, не подозревал, что в Ленинграде среди бела дня совершенно свободно могут появиться американцы или англичане. При этом они, с одной стороны, совсем не походили на несчастных эксплуатируемых рабочих, с другой – на них не было звериного оскала капитализма, с третьей стороны, они не походили на шпионов и вредителей, прикрывающихся личиной простого советского человека. Боковым зрением я наблюдал за ними: это были обычные люди, правда, прекрасно (по сравнению с советскими людьми) одетые, воспитанные и уверенные в себе.
Сейчас трудно представить, что такая обыденная сцена может запечатлеться на всю жизнь. Изменение мировоззрения складывается постепенно и вырастает из мелочей. Эта запомнившаяся мне сцена была той каплей, которая показала мне, что что-то в нашей жизни не то, что, пожалуй, не стоит безоговорочно принимать за чистую монету газетную продукцию. Тогда, конечно, я всего этого еще не понимал. Прозрение пришло несколько позже.
Я уже писал, что никуда далеко не уезжал, а тут появилась возможность съездить в Москву. Я очень хотел посмотреть столицу, поездить в метро, сходить в Третьяковскую галерею, побродить по улицам. И вот летом 1951 года моя мечта смогла осуществиться. С билетами на поезд тогда было очень сложно: кроме центральной кассы, расположенной в здании Думы (на Невском), в городе было еще 2—3 кассы в районах. В Приморском (ныне Петроградском) районе касса располагалась на улице Щорса (ныне Малый пр. ПС). Поскольку помещение кассы было очень малó, вся толпа стояла на улице. Не помню, сколько часов я стоял в очереди, но в конце концов подошел к окошку и купил билет. Чем я руководствовался (то ли ценой, то ли других билетов не было), не знаю. Но билет был в плацкартный вагон на круговой поезд, который шел 18 часов и приходил в Москву в 6 часов утра. Так что Жене пришлось ни свет, ни заря ехать из Перово в Москву.
В качестве иллюстрации привожу несколько моих наивных писем-впечатлений, которые я посылал маме (почта тогда работала хорошо):
Спокойной ночи, мама!
Я приехал в Бологое благополучно. Я купил красной смородины и с удовольствием ем ее в пути. Сейчас 11 часов. Поезд здесь стоит 50 минут. Пишу письма в потемках, так как лампы светят плохо. Я купил книжку «Маршрут неизвестен» – это игра-головоломка.
Алёша.
24.07.1951
22 часа.
* * *
Здравствуй, дорогая мама!
Сегодня в 6 час. утра я приехал в Москву. Меня встретил Женя. Около часа мы с Женей поехали в Москву. Там долго ездили в метро. В метро автоматические кассы 2-х типов. В одни кассы опускаешь точно 50 коп. и получаешь билет. В другие можно опустить больше – и вместе с билетом получаешь сдачу. Также мне понравились эскалаторы. Встаешь на движущуюся ленту – и дальше лента превращается в лестницу. Мы были в Министерстве путей сообщения, на Красной площади, на улице Горького, видели Большой театр. Были у тети Муси.
Алёша.
25.07.1951
* * *
Здравствуй, мама!
Время я провожу хорошо. 26 июля мы с Женей проснулись в 12 час. 27-го почти целый день катались на метро. Вчера из Перово поехали в МГУ (Московский Государственный университет). Потом хотели попасть в Мавзолей. Простояли 3 часа (с 3 до 6), и как раз перед нами, когда нам оставалось стоять 10 минут, Мавзолей закрыли. Каждый день, кроме четверга, мы смотрим телевизор. Новые станции метро очень красивы. В них есть лампы дневного света. Москва мне нравится тем, что улицы в ней извилистые и то поднимаются, то опускаются.
Алёша.
29.07.1951
* * *
Здравствуй, дорогая мама!