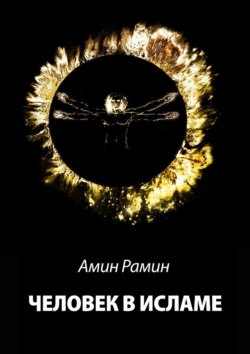Читать книгу Человек в исламе - Амин Рамин - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 13. Кризис современного мира. Креационизм и манифестационизм: критика одного заблуждения
ОглавлениеСовременный мир, называемый также «модерном», как известно, очень гордится своим «прогрессом», своими «познаниями» и вообще считает, что движется вперед, от худшего к лучшему, порвав с неразумным, тёмным прошлым… Но если мы посмотрим на западную цивилизацию, ставшую сегодня уже всемирной, то увидим, что развивается она как-то чрезвычайно однобоко, что она построена на радикальном разрыве с тем, что можно назвать «сакральной перспективой», с высшими измерениями человеческого бытия. Во всех своих аспектах она нацелена на материальный, внешний, эмпирический мир. Это общественное устройство, ориентированное на прогресс в материальном мире («потребительское общество»); это экономика, занятая увеличением изготовления материальных благ; это наука, принимающая исключительно данные материального чувственного опыта – то, что можно измерить и подсчитать.
То есть современная цивилизация основана не на каком-то расширении – например, расширении познания, рациональности (как обычно думают), – а наоборот, на сужении, на очень сильном урезании картины мира. Объектом, на который ориентировано исключительное внимание, становится этот эмпирический мир, воспринимаемый внешними органами чувств. Всё остальное просто беспощадно отрезается. Но зато взамен мы получаем колоссальный рост эффективности именно в плане манипуляции силами этого мира, этого ограниченного участка реальности. Почему произошло такое ограничение? На это есть свои причины, и о них мы потом скажем.
То есть тут имеется на самом деле никакой не прогресс знания, а регресс, ограничение. Если мы спросим: «Почему люди, скажем, две тысячи лет тому назад не имели такой науки с её ядерными установками и адронными коллайдерами?», то общепринятый ответ, которому нас всех учили в школе, будет звучать так, что «ну там были какие-то дикари, какие-то неразвитые люди, которые еще не достигли нужного уровня прогресса». Но на самом деле в античной цивилизации был такой уровень развития, до которого западный мир потом снова дошёл только в 19 столетии, а по некоторым параметрам не дошёл до сих пор. И египетские пирамиды тоже явно не дикари строили, их секрет до сих пор не разгадан…
Ответ состоит в том, что тем людям эта наука была просто не нужна. Они в своем мире не испытывали никакой потребности в том, чтобы расчленять и пытать природу, выведывая её тайны. И такие методы вообще показались бы им каким-то кощунством, выходом за рамки, вызовом силам бытия. Некой страшной и уродливой вещью. То есть вместо того чтобы слушать, например, как поёт птица – вместо этого убить её и препарировать под микроскопом, чтобы изучить, как там у неё устроены голосовые связки, – это показалось бы им диким садизмом, не больше. Людей, которые занимались бы такими вещами, посчитали бы чёрными подземными сектантами, социально опасным явлением…
Потому что соловей, например, связан по эйдетической цепи с розой, а роза – с какой-то звездой или планетой… А вместе они выражают красоту бытия, а значит, и совершенство Творца этого бытия… И понятно, что для того чтобы разорвать эти связи, чтобы препарировать под микроскопом соловья и разделить розу на атомы – для этого нужна изрядная доля того, что можно назвать кощунством и ненавистью к миру. Для этого изначально надо иметь такой взгляд на мир, который был бы построен на садизме, отвращении и презрении к нему. Откуда взялся такой взгляд – мы потом подробно поговорим.
И если мы посмотрим на фигуру, скажем так, мудреца или учёного в традиционном, домодерновом мире, то увидим, то это был прежде всего человек с неким цельным мировоззрением. Если мы возьмем, например, такие личности, как Авиценна, шейх Бахаи или шейх Ахсаи в исламе, то это были универсальные умы, которые одновременно владели теологией, тайными науками, физическими науками, математикой, риторикой, поэзией, медициной и т. д. Шейх Бахаи писал книги по теологии и одновременно проектировал знаменитые мечети в Исфахане. И его видение теологии отражалось в архитектурных принципах этих мечетей…
То есть это знание было мудростью, которая начинала с неких общих основ и потом двигалась от целого к частному. Но кого сегодня называют «учёным»? Это, наоборот, узкий специалист, работающий в особом институте и исследующий крайне ограниченный круг вопросов. Даже в частных науках уже нет ученых. Уже нет «специалистов по физике» в целом – есть специалисты по квантовой физике, ядерной физике… Такому человеку просто нечего сказать о мире, он ничего в нём не понимает, не видит его. Когда они начинают писать какие-то книжки, где пытаются рассуждать о мире, чему-то учить, это производит настолько жалкое впечатление ограниченности, косности и мракобесия… С какой-то дичайшей чушью вроде «покорения Луны», «освоения космоса» и т.п… Но ещё хуже, когда сегодняшний «специалист по архитектуре» начинает проектировать дома, в которых предстоит жить людям. Естественно, он не создаст ничего, помимо полного уродства, вроде сегодняшних стеклянных коробок, потому что ему нечего вложить в это строительство, за ним не стоят более высокие принципы. Ведь он не занимался теологией, как шейх Бахаи…
Истинное знание может быть только целостным, начинающимся с основ бытия и заканчивающимся частными выводами и следствиями. Потому что если ты не знаешь основы, то как можешь познать частности? Например, если вы спросите современного «учёного» о Боге, то самое вразумительное, что сможете услышать – что это «не вопрос науки». Почему не вопрос науки? «Потому что он выходит за пределы опыта». Каким образом самый основной вопрос оказался вдруг «ненаучным»? Вопрос, от которого зависит ни много ни мало вся наша судьба в этом мироздании! И как так оказалось, что он «выходит за пределы опыта», если весь наш опыт – буквально весь! – указывает на Бога, потому что всё, чем наполнен наш опыт, является Его творениями, Его знамениями, Его аятами…
Итак, позитивистская наука ни в коем случае не является познанием мира. Она представляет собой не познание мира, а его разложение на некие аналитические части, которое не увеличивает знание, а убивает его. Познание возможно только как движение «сверху вниз», от общих мировых принципов – к частным вещам, которые включаются в эти всеобщие связи и только в таком качестве предстают как «познанные». А потому, вопреки мифам, насаждаемым этой же «наукой», средневековый человек знал о мире больше современного. Ибо у него была некая общая картина, которой нет у людей модерна. Если мы возьмём современного человека, то увидим, что его сознание наполнено какими-то обрывками «научных» мифов, типа «чёрных дыр» и «полётов на Луну», осколками лживой эзотерики, некоторыми сведения из политики, из интернета и фильмов, понатасканными оттуда-отсюда.
В результате мы видим, что его сознание – это просто помойка, где безо всякой связи валяются груды плохо пережёванной информации. Что он на самом деле вообще ничего не знает о реальности. И отсюда крайняя манипулируемость современных людей. Средневековый человек не позволил бы управлять собой с такой легкостью. Ибо если у человека нет цельной картины мира, основанной на неких общих и непоколебимых принципах, то он представляет собой просто пыль на ветру. Ему можно внушить что угодно, вложить в голову любую ложь. А потому мусульмане хуже всех поддаются манипуляции. Это общепризнанный факт. Мусульманином нельзя так просто управлять, потому что у него в голове есть некая общая, целостная картина.
Итак, невозможно познать мир, двигаясь «снизу вверх», то есть разложив его на груду мёртвых элементов и пытаясь соединить такую груду в общую картину. Это подобно попытке собрать новую вазу из тысяч осколков. Или вылечить какой-то орган, абстрагируясь от всего организма. И так на самом деле и происходит в современной медицине. Традиционная медицина исходила из того, что организм является целостностью, состоящей не только из физического, но и душевного субстрата. Попытка лечить один больной орган бессмысленна, потому что болезнь коренится во всём теле. А потому традиционная медицина была нацелена на то, чтобы просто помочь организму как самоподдерживающейся системе сохранить здоровье, то есть отрегулировать себя так, чтобы самостоятельно справиться с болезнью. А это не стоило больших средств – нужно было лишь правильное питание, правильный образ жизни и определенный душевный настрой…
Это целостный взгляд на устройство человека, согласно которому здоровье поддерживается всей композицией его телесной, душевной и духовной структуры. Тогда как если вы посмотрите на современную, общепринятую медицину, то увидите, что она на самом деле ничего не лечит. Если у человека заболел какой-то орган, например, сердце, то ему пропишут некие лекарства, которые временно снимут боли в сердце, но при этом отравят другие органы. В результате через несколько лет вернутся и боли в сердце, и вдобавок к этому начнутся разрушения в других частях тела, потому что целостное здоровье организма будет подорвано. А поскольку современная медицина представляет собой гигантский бизнес с огромным оборотом, поддерживать самовосстановление организма и настоящее здоровье ей невыгодно – нужно, чтобы человек через какое-то время снова пришёл со своим больным сердцем и еще другими проблемами в придачу и опять платил деньги врачам и фармацевтическим компаниям – и так до самой смерти…
Итак, что я хочу сказать? Что эта наука построена не на развитии знания, как принято считать, а на его регрессе, на выделении очень узкого слоя реальности, в результате чего происходит взрывное повышение эффективности. Если я посвящу всё свое время закручиванию гаек, скажем, то в результате я достигну огромной эффективности в данном занятии. Но только какую пользу я извлеку из этого для своей жизни? Она просто станет скудной и унылой, наполненной какими-то гайками… И никакие материальные компенсации не заменят мне потери смысла. Таким же стал и современный мир, превративший людей в автоматы, работающие сутки напролёт непонятно зачем и ради чего.
Может быть, скажут: «Ну зато жить стало лучше и комфортнее, благ стало больше…» Это тоже крайне сомнительное утверждение. Современный человек в среднем живёт гораздо хуже, чем две тысячи лет тому назад. Если вы посмотрите на античные города периода эллинизма или Римской империи, то по искусности построек и комфорту современные города даже рядом не стояли. Ведь люди там жили фактически в окружении произведений искусства, каждый камень был, что называется, ручной работы… Там действовали прекрасные системы водоснабжения с горячей и холодной водой, всё это было. Кое-где римскими дорогами пользуются до сих пор… И показательно, что когда разговариваешь с адептом «современного мира», то есть всего этого бреда о «прогрессе» и «развитии», то они сразу начинают ссылаться на какие-то исключения, на неудачные эпохи в истории человечества, и говорят что-то такое: «А, ну вы хотите, чтобы как в средневековье было…» Или: «А, ну вы, наверное, за то, чтобы люди вернулись к палке-копалке и первобытно-общинному строю…» На самом деле никакого «первобытно-общинного строя» не существовало, это еще один квази-научный миф, а что касается средневековья – точнее, не всего средневековья, а раннего его периода, когда произошло крушение античной цивилизации, – то это исключение, а не правило. А если взять другие эпохи и цивилизации, помимо этого пресловутого «средневековья», которым всех тычут как некой красной тряпкой, то люди там жили гораздо лучше, чем сейчас… Когда археологи откопали древнюю минойскую цивилизацию с её столицей Кноссом, они были поражены сложнейшим устройством водопровода, канализации, вентиляции, ни в чем не уступавшим современному… А ведь это было построено 4 тысячи лет тому назад!
А сегодня мы живем в ужасных бетонных коробках, которые ещё и невозможно купить без пожизненной долговой кабалы, и называем всё это «прогрессом». И чтобы оплачивать эту кабалу, человек вынужден вкалывать день и ночь до глубокой старости на абсолютно бессмысленной, тупой работе. Тогда как античный человек вообще практически не работал – ну может там пару часов в день – и всю жизнь проводил на агоре или форуме, в разных церемониях и празднествах… И при этом мы думаем, что живём в каком-то «прогрессивном» и «развитом» обществе…
Добавьте сюда ещё и такие прелести современной «цивилизации», как загрязнение окружающей среды, так что скоро мы будем воевать друг с другом просто за чистый воздух… Что сегодня обычные нормальные продукты, так называемые «биологически чистые», становятся роскошью, доступной только для богатых… Что мы загадили все реки, вырубили леса, выпотрошили недра земли… Что большинство обитателей современных городов страдает неврозами и психозами из-за бессмысленности и невыносимости своей жизни… Что мы постоянно боимся каких-то атомных бомб, каких-то вирусов, чернобылей, взрывов, «черных дыр» и других малоприятных вещей, которыми наградила нас эта чудесная прогрессивная «наука». В городах за нами следят тысячи камер, за нами наблюдают из космоса, шпионят из интернета, подслушивают через мобильные телефоны, на каждое своё действие мы должны брать какое-то «разрешение»… Что уже на подходе ещё более страшные вещи, такие как всеобщее чипирование, клонирование людей…
Тогда мы поймем, что те люди, которых эти так называемые «учёные», вооруженные микроскопами, но не видящие дальше своего носа, называют «неразвитыми» или «примитивными», жили гораздо лучше нас. И что эта «наука» породила вал таких сил, над которыми человек уже не властен.
Как же мы дошли до всего этого?
Иногда в этом обвиняют монотеизм. Есть такая теория, что предпосылки для рождения современной западной цивилизации с её десакрализацией, рационализацией, «профанизацией» человека и мира подготовила авраамическая парадигма. Ведь монотеизм переносит все акценты на единственного Бога, по отношению к Которому мир выступает как творение, само по себе лишённое божественности. Известный немецкий социолог Макс Вебер в связи с этим говорил о «расколдовании мира» монотеизмом.
Эта гипотеза постоянно встречается тут и там в различных источниках. Обычно она раздаётся из лагеря, который можно условно назвать «неоязыческим». Представители этого лагеря или, лучше сказать, «взгляда на мир» обвиняют в бедах современного мира монотеистическую парадигму. Языческий мир якобы был целостным, живым, пронизанным сакральными силами, многомерным, а вот монотеизм всё это уничтожил, умертвил мир, убил богов, рационализировал, сделал одномерным…
Давайте я приведу ряд цитат из цикла лекций Александра Гельевича Дугина под названием «Философия традиционализма». Я сошлюсь тут именно на этот цикл, потому что там данный взгляд приведён последовательно, ясно и четко, так что нам будет легче на этом примере разобрать его.
Итак, Дугин говорит: «Вкратце схема такова. – Авраамическая семитская традиция основана на креационистском подходе, предполагающем в основе бытия радикальное различие между Творцом и Творением… Неавраамические традиции, и особенно ярко индоевропейские, утверждают, напротив, сущностное единство между Божеством и миром (человеком), между которыми различие лишь в степени или осознании „Высшего Тождества“ (индуистская формула „Атман есть Брахман“). Это – манифестационизм. Здесь этика и метафизика резко отличается от авраамизма. В некотором смысле эти позиции полярны».
Давайте сделаем тут некоторые пояснения. Громоздкими терминами «креационизм» и «манифестационизм» называют две крайних формы отношения к Божеству и миру. «Манифестационизм» происходит от латинского manifestatio, то есть «проявление». Божество манифестационизма, или, говоря иными словами, языческой традиции, «большого язычества», предстаёт как вершина огромной лестницы великого космоса, подразумевающего градацию энергий и форм, нисходящих сверху вниз и поднимающихся снизу вверх. А потому божество тут «разлито», проявлено, манифестировано во всех вещах и существах. Всё соткано из божественного принципа, а потому каждая вещь переходит в любую другую вещь. Конечно, мы сразу узнаём тут знакомую нам суфийскую ересь «вахдату ль-вуджуд», которая была контрабандой привнесена в Ислам именно из этого языческого, манифестационистского континуума.
Этой перспективе, согласно Дугину, противостоит «креационизм», то есть монотеистическая парадигма, так или иначе представленная в трёх великих авраамических религиях – иудаизме, христианстве и исламе. Про неё он говорит: «Мир в такой перспективе дезонтологизируется. Бытие приписывается только одному Богу. Всему остальному, то есть творениям, достается не самобытие, а бытие, взятое напрокат, чуждое, чужое постороннее. Всё сотворённое мыслится механически, как нечто принципиально неживое, как неонтологическая сама в себе реальность. Такая реальность, оживленная началом внешним по отношению к ней, имеет только „скорлупное“ существование, но не имеет сущности».
И далее: «…Мир нагружен совершенно иным значением. Он не имеет более прямых онтологических корней. Он вырос из ничто, он призван к бытию из ничто. Эта „призванность к бытию из ничто“ ставит этот мир в уникальное положение. Мир впервые становится локальным и свободным – свободным от той „золотой нити“, которая связывала бы его с Божеством напрямую. Он свободен от собственного духовного „я“. Он не то, чтобы иллюзорен (может быть, он и не иллюзорен), самое главное – он не обладает внутренним бытием. Если мы возведем его генеалогическую траекторию к области имманентных причин, мы не получим никакой онтологической реальности. Мы столкнемся с уникальной непреодолимой гранью, за которой ничего нет».
И в 6-й лекции он говорит: «Здесь возникает фантастическое для гиперборейского ансамбля представление о трансцендентности Творца, о том, что Бог творит мир из ничто, не из самого себя, не проявляя себя, а просто берет за онтологическую основу что-то принципиально отсутствующее, небытие, ничто. И это странное и неизвестное манифестационизму ничто каким-то всесильным жестом трансцендентного Творца приводится к особому квазибытию, поскольку мир как тварь в авраамическом контексте самостоятельным бытием не обладает, бытие дано миру извне, как бы взаймы. „Копни вещь поглубже, в ней обнаружишь смерть“ – такова максима креационизма… Это представление о Боге как абсолютно ином (ganz Andere) по отношению к миру. В этом заключается весь пафос креационистского представления о реальности».
Но так ли всё это на самом деле? Давайте посмотрим. Понятно, конечно, что исторически версий монотеизма было множество. Однако если взять авраамическое Единобожие как «идеальный тип», как парадигму, то что мы видим? Да, мир тут лишается божественности в субстанциальном смысле, но совершенно не так, что он «отделяется» от Бога. Дело в том, что люди, рассуждающие о монотеизме, обычно допускают такую принципиальную ошибку, которая перечёркивает все их рассуждения: они не могут отличить сущность Бога от Его действий (ту же самую ошибку, кстати, делал и Джемаль, говоря об «абсолютной трансцендентности» Творца в исламе). Сущность Бога действительно предстаёт «абсолютно иной» по отношению к миру. Однако Его действия не только не «отделены» от этого мира, но и наполняют этот мир от начала до конца. Ведь все вещи этого мира есть не что иное, как результат действия Бога. А поскольку всё творение создано действием Бога, то всё оно и указывает на Него. Творение целиком – это «перст указующий» в сторону Творца; все вещи – это Его знамения, Его аяты.
В «Таухиде» Садука от Абу Басира передано:
Я спросил у Имама Садыка (А): «Сообщи мне, будут ли верующие видеть Аллаха, велик Он и свят, в День воскресения?»
Он сказал: «Да. И прежде Дня воскресения они видели Его».
Я сказал: «Когда?»
Он сказал: «Когда Он спросил их: „Разве Я не ваш Господь?“ Они сказали: „Да“ (7: 172)».
Потом он помолчал, а затем сказал: «Верующие в этом ближнем мире прежде Дня воскресения также видят Его. Разве ты сейчас не видишь Его?»
Я сказал ему: «Да буду я твоей жертвой, я передам этот хадис от тебя?»
Он сказал: «Нет, потому что если бы ты рассказал его – люди отвергли бы его, не понимая его смысла, или же поняли его как уподобление (Господа творениям) и стали бы неверующими. (Знай же, что) видение сердцем не таково, как видение глазами: превыше Аллах того, что приписывают Ему уподобляющие и отступники»58.
И «видение» здесь означает не лицезрение сущности Бога (то есть Бога Самого по Себе), а лицезрение следов Его действия и тварного замысла, Его машийи, во всякой вещи. Если ты видишь действия и эффекты огня, то разве нельзя сказать, что ты видишь сам огонь? Имам Хусейн (А) говорит в «Дуа Арафат»: «Ослепли глаза, которые не видят Тебя» – это значит: «не видят Твоего действия во всех вещах», а не «Твоей сущности».
Бог проявляет Себя не Своей сущностью, а через Свои действия. Но тот, кто проявлен через действия, более явен, чем сами действия. Так же как человек, проявленный через сидение, более явен, чем само сидение, хотя ты и не можешь постигнуть его иначе, как через это сидение. А потому ты говоришь: «О сидящий!» Однако если ты сконцентрируешься на самом сидении, то сидящий будет скрыт от тебя. И точно так же – когда ты сконцентрируешься на творении, от тебя станет скрыт Творец. Однако как только ты начнёшь смотреть не на действие, а на Того, Кто явлен через действие, Он станет для тебя очевиднее всех вещей. А потому Имам Садык (А) говорит: «Разве ты сейчас не видишь Его?» И потому Имам Хусейн (А) говорит: «Ослепли глаза, которые не видят Тебя».
Итак, значение видения Бога – это видение Его аятов, знамений и следов Его действия. Например, в хадисе от Имама Резы (А) говорится, что тот, кто увидит Мухаммада (С) на его высоком положении в будущем мире – тот увидит Аллаха. Это означает, что по величию, великолепию и власти этого положения мы поймем величие, великолепие и власть Самого Аллаха. А потому видение этого положения будет видением Аллаха. И точно так же: «Кто посетил могилу Хусейна – как будто посетил Аллаха на Его Троне»59. Это означает, что могила Хусейна (А) является таким великим знамением Всевышнего, что её посещение подобно посещению Самого Всевышнего.
А потому, с таким же основанием, как мы говорим, что Бог «по ту сторону» и «абсолютно трансцендентен», можно и сказать, что всё наполнено присутствием Бога. Его великие и прекрасные имена пронизывают всё сущее, и Он поддерживает его существование в любой момент. Великая фигура Всеприсутствия создана через действие Аллаха и Его сотворённые атрибуты, выраженные в этом действии. «Изнанка» мира соткана из света Бога, несущего в себе Его громовые слова, Его сверкающие письмена, Его предвечную мысль о творении. Всё творение есть совокупность аятов, знамений, указующих на Бога. Их назначение одновременно в том, чтобы проявлять и скрывать Его. Миллиарды указательных пальцев со всех сторон направлены на Великое и Скрытое, которое навсегда останется за завесой, раздвинуть которую не дано никому. И однако же в силу самого этого указания оно одновременно так открыто и явно, как ничто другое…
Может быть, кто-то скажет: «Ну это только в вашей исламской или вашей шиитской версии монотеизма это так, а мы говорим о некой идеальной парадигме, о монотеизме вообще». На самом деле есть большие подозрения, что как раз то, о чём говорится у Дугина – это никакой не монотеизм, а его особая искаженная форма, инфицированная тем, что я называю «чёрным мифом». Та форма, в которой предстал монотеизм на Западе. Но об этом позже…
А пока скажем, что если мы действительно исследуем пророческое единобожие, то во всех его аутентичных версиях мы не найдём ничего такого, о чём утверждается у Дугина (и не только у него: повторяю, что Дугина мы приводим только как пример). Давайте возьмем буквально любую цитату из пророческих книг Библии, из иудейского «Ветхого завета». Ну, например, глава 15 из Исайи: «Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это. Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это». Или откроем 10-ю главу Иеремии: «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По гласу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих».
Что мы тут видим? Что всё это – солнце, свет, мрак, небеса и земля – всё это знамения, аяты Всевышнего, указующие на Него. Всё это – отпечатки Его воли и Его действия. Его действия, а не какого-то «ничто»!
И то, что эта гипотеза об авраамической парадигме как истоке современной западной цивилизации не верна, легко доказывается исторически, потому что если мы посмотрим на исламский мир, где монотеистический принцип был проведён наиболее последовательно, то не увидим там ничего подобного. В исламском мире не было ни секуляризма, ни экспериментально-математической науки, ни техницизма, ни индивидуализма – ничего схожего с проявлениями западной модернистской цивилизации. Причем в обеих главных версиях ислама – в шиитской и суннитской. Да, возможно, что-то напоминающее европейские тренды было в исмаилизме, но он как раз и является дуалистической оккультной идеологией в оболочке ислама, то есть другой религией. И в этом плане интересно, что именно с исмаилизмом у западного мира были самые глубокие контакты, особенно в период Крестовых походов.
Данная тема нуждается в отдельном серьёзном изучении. И вполне возможно, что, победи исмаилизм в исламском мире, то там тоже зародилось бы нечто подобное «модерну», как на известном нам Западе. С точки зрения «альтернативной истории» весьма интересное предположение…
Итак, дело не обстоит так, как утверждает эта примитивная схема, говорящая, что авраамическая парадигма «разделяет» между Творцом и творением, а языческая «соединяет» («креационизм» и «манифестационизм»). Да, возможно, в каком-то первом приближении, на некоем начальном примитивном уровне можно сказать так – для внешней публики, для людей, которые не могут пойти дальше в своём понимании…
Но на самом деле эта схемка, как и другие такие примитивные схемы, не описывает реальность. Всё гораздо сложнее. Тот, кто ищет истину, всегда должен входить «узкими вратами». То, что общедоступно, легко и просто, то, что лежит на поверхности – всё это всегда оказывается ложью. Все простые ответы, все легкие и самоочевидные обобщения ведут в тупик. Это всегда надо иметь в виду тем людям, которые размышляют и прилагают некие усилия, чтобы построить лично для себя некую картину мира. Не взять нечто готовое откуда-то, а самим что-то понять, так чтобы это стало твоей плотью и кровью…
И следует обратить внимание, что пресловутое «творение из ничто» в фундаментальных текстах авраамической традиции вообще никак не акцентируется. В Библии это выражение встречается только один раз, в исторической книге Маккавеев, имеющей с точки зрения вероучения глубоко вторичный характер. В Коране такого выражения вообще нет. Да, его можно использовать, оно легитимно, и в наших источниках оно присутствует, например, в дуа «Джаушан кабир»: халака кулла шай-ин мина ль-«адам – «сотворил все вещи из ничто»60.
Но почему эта тема не акцентируется? Да потому что Всевышний не творил вещи из ничто в субстанциальном смысле – так чтобы сначала было какое-то «ничто», а потом Он сотворил бы их из него. Само это выражение имеет не более чем переносный смысл – «сотворил все вещи из ничто» в том значении, что их просто не было до того, как Он их сотворил. И если смотреть на дело с субстанциальной точки зрения, то Всевышний, конечно, сотворил все вещи не из ничто, а из Своего замысла, из Своей тварной воли, машийи, которая и есть не что иное, как Его действие и сам процесс творения. Имам Садык (А) говорит: «Аллах сотворил машийю саму по себе, а потом сотворил вещи по этой машийе»61.
То есть в авраамической перспективе «за» вещами стоит не какое-то мифическое «ничто», а вот этот световой, огненный поток всемогущей воли Всевышнего, из которой изливаются воды бытия на «бесплодную землю» возможности – «разве они не видели, как Мы гоним воду на бесплодную землю?» (32: 27). Или, говоря другими словами, чтобы было понятнее: Всевышний создал бытие, а потом из сияний света этого бытия создал все вещи, и каждый следующий уровень вещей Он создал из сияния света предыдущего уровня. Таким образом, все вещи сотворены из бытия, а не из ничто.
Далее, Дугин говорит: «Это авраамическое ничто представляет собой некую печать абсолютной смерти мира, поскольку оно впервые есть нечто радикально и тотально отличное от природы божества. Такой категории не знает ни одна манифестационистская традиция. Как может быть нечто абсолютно отличное от божества и, соответственно, не обладающее ни одной из его характеристик?… Базой этого бытия является не какая-то глубинная, сокрытая реальность, а ничто. Это бытие как проекция ничто, вызванная внешней волей трансцендентного, внеположного творца, получает сложный импульс, некий изначальный щелчок, оно вертится, как механический предмет, как сложная машина, хитроумная конструкция. Когда этот внешний импульс истощается, исчерпывается, заканчивается, оно, как ненужное колесо, куда-то падает, растворяется, распыляется. Ничто идет в ничто».
На самом деле всё обстоит совершенно иначе. Да, мир никак не идентичен сущности Творца. Да, мы не знаем и никогда не узнаем, какова эта сущность Сама по Себе. Но вместе с тем мир – это проявление действия Творца, а значит, в нем отражены качества Его действия. Это подобно тому, как мы познаём огонь по его эффектам. Предположим, мы не знаем сущности огня и предположим, что эта сущность вообще недоступна нашему познанию и радикально отличается от всего, что мы знаем и можем знать. Но тем не менее для нас доступны действия огня: мы знаем, что он обжигает, и потому называем его «обжигающим»; мы знаем, что он греет и потому называем его «греющим»… И если мы знаем это, если мы познаём огонь не по его сущности, а по его действиям и эффектам, то можем ли мы сказать, что мы «радикально и абсолютно отчуждены от огня»? Или, наоборот, огонь через эти свои действия как раз и становится для нас более явным, чем всякое явное?
И точно так же мы знаем, что Бог создал прекрасный мир, и потому называем Его «Прекрасным». Мы знаем, что невежда не создаёт мудрое творение, и потому называем Его «Мудрым». Мы знаем, что мёртвый не создаёт жизни, и потому называем Его «Живым». Мы знаем, что незнающий не создаёт знания, и потому называем Его «Знающим». И мы знаем, что тот, кого нет, не может создать бытие, а потому мы говорим, что Он – есть.
Иначе говоря, мы знаем, что Он – добр, потому что Его действия добры, а действия недоброго не бывают добрыми. Мы знаем, что Он мудр, потому что Его действия мудры, а действия немудрого не могут быть мудрыми. И так далее… Но то, каков Он Сам по Себе, мы не знаем. Все атрибуты, сифаты – это Его понимание нами через Его действия и результат этих действий.
Это подобно тому, как «стоящий» или «сидящий» – это проявление такого-то человека (Зейда) через его действие. И если ты хочешь познать этого человека, ты должен познать его действия, такие как «стоящий», «пишущий», «смотрящий», «говорящий». И данный человек (Зейд) – это есть то, что проявлено для тебя из этих действий и атрибутов. Однако всё это не есть он сам, по своей сущности.
А потому творение в перспективе Единобожия идёт не к ничто, как пытается убедить нас Дугин, а возвращается к своему пределу – к воле Всевышнего. Оно онтологически упирается не в ничто, а в огонь и свет машийи Творца, которая есть не что иное, как совокупность Его действий. Это – его исток, его предел и его возврат.
Говоря обо всём этом иными словами: Творец проявил Себя для творений не Своей сущностью, а через сами же эти творения. А потому для этих творений нет ничего более явного и очевидного, чем Он. Как сказал Имам Али (А): «Не постигают Его мысли, но Он проявился для них через них»62.
Всё это означает, что данный язык не подходит для описания Единобожия. Авраамическое Единобожие, религия Авраама, Исаака, Иакова, Мухаммада, Али, Хусейна и Махди (мир им всем) – это не манифестационизм и не креационизм. Её нельзя втиснуть в такие узкие рамки. Почему? Да потому что, как мы уже сказали, в подлинном Единобожии Творец более явен, более «манифестирован» для творений, чем верховное божество в так называемом «манифестационизме». «Он ближе к вам, чем подъяремная вена» (50: 16). И в то же самое время Он бесконечно далёк от этого творения.
А потому мы не должны играть в эти игры, нам следует отбросить язык этих примитивных классификаций и понять, что о Творце можно говорить только языком парадоксов. Он бесконечно далёк и одновременно бесконечно близок, и в Своей близости Он далёк, а в Своей «дальности» близок, а потому «близость» тут означает «отдалённость», а «отдалённость» означает «близость». Вычленять только одну сторону парадокса и объявлять Бога «только далеким» или «только близким» – значит искажать логику Единобожия или не понимать её.
Творец, в отличие от творения, описывается через соединение противоположностей и снятие их, в то время как для творения это невозможно и называется «противоречием правилам логики». Ибо невозможно в отношении любой тварной вещи сказать, что она одновременно «близка» и «далека», «высока» и «низка», «скрыта» и «явна». Однако Аллах – Далёкий и Близкий, Высокий и Низкий, Скрытый и Явный, Первый и Последний. И «соединение противоположностей» в отношении Бога означает, что Он Далёкий и Близкий одновременно, а «снятие противоположностей» значит, что в действительности Он не далёкий и не близкий, потому что Он близок точно так же, как и далёк, а далёк точно так же, как и близок, а потому «Далёкий» здесь значит «Близкий», а «Близкий» значит «Далёкий». И это – особая логика, противоречащая той, которая действует в отношении творения, применимая только к Вечному. Аллах описывается через соединение противоположностей в смысле снятия противоположностей и через снятие противоположностей в смысле соединения противоположностей.
И последнее, что надо упомянуть в этой лекции – это то, что всё сказанное Дугиным и процитированное нами абсолютно верно – но верно не относительно настоящего пророческого монотеизма, а относительно того, что мы назовём «чёрным мифом», то есть дуалистического, гностического дискурса, в оболочке которого и предстало для западного мира авраамическое единобожие. Как и почему это произошло – мы будем разбирать в будущих частях данного цикла.
58
«Таухид» Садука, С. 122.
59
«Бихар», том 98, С. 77.
60
«Мафатих аль-джинан», С. 478.
61
«Таухид» Садука, С. 298.
62
«Нахдж уль-балага», том 2, С. 115.