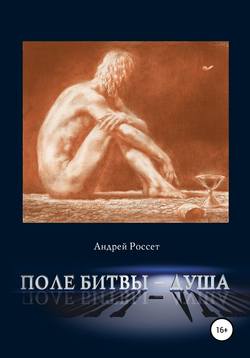Читать книгу Поле битвы – душа - Андрей Россет - Страница 3
ОглавлениеЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«Откуда и почему, я не знаю, да я тут и ни при чём!»
Моцарт
СССР, Ленинград, 1980-е годы.
Не подумайте, что я забыл опохмелиться – я тогда вообще не пил. Раннее летнее утро. Я проснулся и, что для меня не характерно, тут же открыл глаза. Минуя обычную стадию, в которой пытаюсь поймать шлейф ускользающего сна и примиряюсь с тем, что начать новый день можно только открыв глаза. Переход от сна к бодрствованию был непривычно резок. Еще запомнилось: я почему-то не удивился. На фоне большого окна моей старой петербургской квартиры был отчетливо виден силуэт Люцифера. Не выше среднего человека, чуть склонив голову с закрученными назад козлиными рогами, он стоял вполоборота ко мне, стоял совершенно неподвижно. И хотя через него просвечивали утренним светом оконная рама и двор-колодец за окном, его неподвижность была живой, пусть и не в том смысле, которое вкладываем мы – люди. Потом, вспоминая, я ощутил его ожидание – Люцифер ждал… И почти сразу же, не понимаю почему, я заснул. Когда проснулся вновь, в комнате никого не было. Я поднялся с кровати, размышляя о том, приснился мне неожиданный гость или нет, и… увидел на простыне чёткий грязный отпечаток раздвоенного козлиного копыта. Я представил, как сатана ставит ногу на мою кровать и, опираясь о колено, склоняется над спящим человеком…
Простынь я отдал в стирку, и не тогда, и не в течение последующих двадцати лет, не очень-то задавался вопросом, что же это было. Событие заняло свою нишу в памяти, и лишь изредка я вспоминал о нём, рассказывая друзьям или знакомым, что называется «к слову» – в беседах о мистике и привидениях. Было мне тогда двадцать лет, после этого происходили и другие удивительные события, но только теперь, спустя многие годы, стало очевидным, что то первое мистическое событие в моей жизни было и первым фрагментом Мозаики странных происшествий, сопровождавших меня на протяжении жизни. Эта загадочная Мозаика на сегодня приняла уже видимые, но еще не законченные очертания. Отчего-то у меня предчувствие, что собрана эта Мозаика будет тогда, когда я поставлю последнюю точку в моей истории, – истории, в которой я собираю таинственные фрагменты удивительной Фрески, острыми осколками рассыпанные по моей памяти. Возможно, это также будет означать мою смерть.
Прошли годы, но тот отпечаток копыта на простыне до сих пор стоит у меня перед глазами…
Я – пленник в гулком пространстве моей памяти, пленник ещё не найденного мною Слова… пленник во сне зачитанного на эшафоте приговора, эхом звучащего во мне, хотя я уже проснулся…
* * *
Итак, мне тогда шел двадцать первый год. Умён, красив, талантлив, впереди удивительная, интересная и непременно счастливая жизнь – так мне казалось. То есть, перед вами на булавке – «идиот молодой обыкновенный»: самовлюбленный в той степени, когда эпитет «эгоист» лопается, как мыльный пузырь от перенапряжения; глупый, потому что умный; и, наконец, похотливый настолько, что старина Фрейд на том свете наверняка не раз из-за меня вносил коррективы в свою теорию. Это я теперь так о себе том думаю, а тогда… Тогда я был вполне заурядным молодым человеком, у которого только и есть, что шанс стать незаурядным, есть желание, чтобы все любили тебя и тобой восхищались – при неосознанном отсутствии на то оснований, и патологическая лень, которая с годами переросла в чувство комфорта и стала моим «alter ego»1. Правда, у моей лени есть очень полезное свойство: когда я чем-либо увлечен, неважно, физическая это или умственная деятельность, моя лень удивительным образом перевоплощается в свою прямую противоположность – колоссальную работоспособность. (Наверное, по закону компенсации энергии – «печному» закону сказочного богатыря Ильи Муромца). Но только до тех пор, пока я действительно увлечен процессом. Так что вполне возможно, роман этот я не закончу, он никогда не будет напечатан, и, соответственно, вы его никогда не прочтете. А уж шансов, что по нему будет снят кинофильм, и того меньше. (Когда роман был всё-таки закончен, один человек сказал про него: «Это – Нобелевская премия по литературе». Этим человеком был мой папа. И романа он не читал).
Пожалуй, мне надо попросить тебя, мой читатель, потерпеть несколько страниц бытописания моей непутевой юности. Мне как-то неловко вываливать на тебя ворох мистических приключений, не познакомив с тем, с кем они происходили. Я, собственно, предпочел бы обойтись без этого, но еще никому не удалось собрать Кубик Рубика, не взглянув на него.
К началу моей истории я несколько лет как окончил школу, в институт не поступил, и, усыпив свое ленивое тщеславие тезисом «пока», болтался по стране, уверяя себя, что набираюсь жизненного опыта, столь необходимого для моего блистательного будущего. Само собой, никакого представления о том, каким должно быть это будущее, я не имел, равно как и о сопутствующем ему опыте. Страна моя Россия тогда называлась СССР, мой родной город Петербург – Ленинградом, до перестройки оставалось еще несколько лет, да и будет ли она, тогда, собственно, никто и не знал.
Родители мои развелись, когда мне было четырнадцать лет, и я с ними тоже развелся, потому как с пятнадцати лет у меня появилась возможность жить одному, в оставленной мне комнате в коммунальной квартире. Так что последние два года школы я жил самостоятельно – отец, служивший военным врачом во Владивостоке, присылал деньги по почте.
Свобода от родителей сыграла со мной в свою собственную игру, и я до сих пор не знаю, кто из нас выиграл. Под надзором «стариков» я хорошо учился, и в перспективе жизнь моя должна была стать сытой и уважаемой, как раньше говорили: «примером для подражания». Влиятельные родственники в Москве ждали окончания мною школы, далее – поступление в уже определенный, «закрытый» (в те годы) элитарный институт, и предопределенная карьера, в которой успех зависит не столько от способностей, сколько от связей; в общем, я был «маменькин сынок», что говорится «на выданье». Да и невесту мне тоже наверняка попытались бы подобрать, есть у клановых семейств такое хобби. Нет, не подумайте, я не против такой жизни… для кого-то. Меня в ней совершенно не устраивает то, что это уже не твоя жизнь. Любое событие обсуждается кланом, одобряется или не одобряется, и жизнь превращается в непрерывный экзамен под «заботливым» всевидящим оком родственников.
Оставшись один и амбициозно перепутав свои желания со своим возможностями, движимый юношеским максимализмом я вышел на перрон из тамбура отправляющегося «поезда благополучия», битком набитого моими родственниками. Но может быть, меня подводит память, я себе льщу, и мне просто не достался на этот «поезд» билет. Иногда с потаённой грустью я возвращаюсь воспоминаниями в свою юность и думаю, а как бы сложилась моя судьба, если бы родители не развелись… Ну да ладно, это уже из области альтернативных Вселенных.
* * *
СССР, Владивосток, начало 1980-х.
Итак, в пятнадцать лет я оказался один на один с самим собой, точнее, с тем, кого за самого себя принимал. За два года оставшиеся до окончания школы я научился: прогуливать уроки, пить с друзьями портвейн, соблазнять девушек, иногда даже успешно, превращать дом в бардак, в общем, именно в такой последовательности тратить присланные отцом деньги на месяц за три дня… и совсем разучился учиться. Когда я внезапно понял, что до выпускных экзаменов осталось две недели, в моей голове гуляли такие сквозняки, каких не было, наверное, у флибустьеров эпохи вольного братства. Пришлось, как говаривал мой отец, применить принцип «чугунной задницы» и засесть за учебники. К моему удивлению и удивлению учителей, экзамены я сдал, и сдал неплохо. Это на всю жизнь приучило меня к эффекту «мозгового штурма», и привило стойкое неприятие басни Крылова «Стрекоза и муравей». Выходит, и классики могут ошибаться. Правда, жизнь быстро доказала, что если у тебя есть ум, это еще не значит, что ты умный. К сожалению, это уже не могло стереть прижившееся впечатление, и на многие годы определило мой жизненный стиль под девизом трех «великих» русских «А»: «Авось», «Аврал», и «А и хрен с ним!».
Как я уже упоминал, в институт я не поступил. Вместо Москвы я прилетел к отцу во Владивосток – поступать в Дальневосточный государственный университет. Наверное, мне казалось, что перелетев через всю страну, я наполню свою юную жизнь романтикой дальних странствий. Оказалось, что в университете меня не ждали, во всяком случае, им удалось произвести такое впечатление.
В школе на экзамене английского языка я нечаянно получил четыре балла (что у нашей учительницы было равносильно пятерке), а при поступлении на факультет восточных языков экзаменационная комиссия университета непринужденно доказала мне, что английский язык я вообще никогда не учил, и из милосердия поставила мне два балла, а не один, видимо, чтобы не травмировать не окрепшую юношескую психику. И это притом, что в Москве я, вообще-то, должен был поступать в Институт международных отношений, где готовят профессиональных дипломатов. Дааа… вот были бы лица у моих московских родственников! После провалившегося поступления в университет от меня уже окончательно отвернулась вся родня, включая моего отца. В их элитную «конюшню» требовались «породистые рысаки». Что же касается мамы, то она моими делами никогда особенно не интересовалась, предпочитая устраивать собственную жизнь.
Взаимное разочарование отделило меня от моих близких, и я остался один на один со своим будущим. Планируя поступать на следующий год на восточный факультет повторно, я устроился на работу «поближе к кухне» – в комитет комсомола университета. И хотя работал простым статистиком, мог свысока поглядывать на студентов – у меня был свой кабинет. В нём я перекладывал с места на место бумажки с фотографиями студентов, с оригиналов получал членские взносы на процветание комсомольского руководства и вяло отбивался от таких же вялых попыток университетского чекиста меня завербовать. Волевое лицо этого человека, испещрённое то ли шрамами, то ли оспой, позволяло предположить, что он писал свою чекистскую биографию в окопах тайной войны против империализма, а поскольку перебежать не выпало случая, то теперь дотягивал до пенсии в университете, ведая распределением выпускников восточного факультета в КГБ и разведку – Особый Отдел Штаба Флота. Когда он бывал у меня в кабинете и подолгу сидел, перебирая бумаги, я часто испытывал на тщедушном смазливом юноше, в теле которого я тогда временно находился, долгий пристальный взгляд, из чего и вывел заключение, что он пытается меня завербовать.
Там же, в университете, я познакомился и подружился с Александром – синологом – специалистом по Китаю. Александр учился на последнем курсе китайского отделения восточного факультета. С внешностью ещё не написанного Гарри Поттера, он располагал к себе мягкой, интеллигентной манерой общения, трогательно выглядевшей на фоне отражавшейся в его очках постоянной озадаченности, даже удивления, словно его звездолет разбился, а ему при падении слегка отшибло память, и теперь он недоумевает: что же он тут делает – на Земле, тогда как его ждут на другом конце галактики. Впрочем, к концу обучения на восточном факультете так выглядели почти все студенты. Встречаясь с ними взглядом, хотелось немедленно подсказать, где тут ближайшая стоянка звездолетов. Позже я найду для себя объяснение этому феномену.
Александр уже много лет брал уроки боевого искусства кун-фу у китайского мастера На Му Фаня. На момент моей встречи с Александром, На Му Фаню, живущему уединенно в тайге под Уссурийском, было восемьдесят три года. Александр и двое его друзей неисповедимыми путями попали к нему в ученики. После некоторых колебаний и ряда проверок на искренность намерений они допустили меня в свой круг и стали щедро делиться знаниями, не подпуская, впрочем, к Учителю. К тому времени я уже пару лет как занимался каратэ, легко переключился на кун-фу, и началось мое приобщение к культуре Востока, в которую я влюбился сразу и на всю жизнь.
Наши занятия не ограничивались силовыми единоборствами, они включали в себя изучение чань-буддизма и эзотерические практики. Движения, которые мы разучивали, были сопряжены со сложной дыхательной техникой, развивающей внутреннюю энергию «ци», а сами движения были наполнены медитацией и… поэзией. Вот несколько названий боевых «танцев», внешне направленных против нескольких противников, внутренне – на развитие энергетических чакр «посвященного»: «танец тумана – танец белоснежного замка, затаенного от первых лучей восходящего солнца», «танец слона – танец белого слона, открывающего врата великого города вечности на рассвете золотого дня», «танец волка – танец зеленого волка, великого стража лесных потаенных троп, ведущих в никуда», «танец рыси – танец оранжевой рыси, покровителя священных трав и говорящих тростников», «танец мыши – сила очарования в глазах воина простоты», танцы дракона и тигра, тайфуна и цунами, огня и ветра, свечения и миража и т. д. Сама линия боевого «танца», как в каллиграфии – написании иероглифов – бывает яростной и нежной, неистовой и спокойной, резкой и плавной, порывистой и обтекаемой. Ритм «танца» через дыхание и физическое движение воздействует на внутреннее движение энергии «ци», которая, как оказалось, не выдумана старыми китайцами, чтобы тыкать в нас иголками, а реально существует, и, если вам повезёт, – проснётся и будет заставлять вас искать способы с ней подружиться.
Пройдет много лет, прежде чем я почувствую, как при вхождении в «танец» мысли и чувства исчезают, мир начинает стремительно вращаться, а место пропавшего тела занимают пульсирующие потоки энергии, рождаемые гармонией выверенных движений и дыхания. Бушующий смерч исполняет завораживающий танец, рисующий в бешеном коловращении все мыслимые геометрические фигуры, словно в калейдоскопе множеством Мальденброта уходящие в бесконечность. «Танец» оканчивается, и мир внезапно останавливается, как замирает завершившая свой путь стрела, с гулким стуком входящая в центр мишени. Пославшая её тетива вибрирует, затихая, – ты вдруг находишь себя в состоянии покоя, и сила, которая только что звенела от напряжения битвы, стекает по твоему позвоночнику и прячется до поры, как прячется любая энергия взрыва. И так происходит до тех пор, пока сложность не поймет, что состоит из простоты, и тогда начинается следующая ступень посвящения и обучения, до которой я так и не добрался.
В основном, людей устраивает внешняя сторона искусства кун-фу, и европейский человек, как правило, не заходит дальше желания вытеснить из себя страх насилия и научиться ломать голой рукой кирпичи. То, что мы видим по телевизору, имеет мало общего с подлинным путем кун-фу, для посвященного известного как искусство Великого Общения Хоу-ту. Одна из его составных частей – система Тай-цзи (Великого Предела), состоит из трехсот шестидесяти «танцев» – «священных монологов посвященного», и на постижение загадки, заложенной в них, может уйти вся жизнь. Такая вот есть у китайцев методика постижения Бога и слияния с Ним.
На волне энтузиазма я стал увлеченно учить китайский язык, продержался недолго, но успел зафиксировать в ощущениях, как написание иероглифов влияет на моё сознание, изменяет его, подчиняя и дисциплинируя по своим таинственным и непонятным правилам. Почувствовав, что «крыша поехала», я испугался. Стало понятно, почему специалисты-востоковеды часто производят впечатление людей «немножко не в себе». Почти недоступное западному менталитету написание иероглифов как искусство – это чистейшая медитация. Любопытно, что самые дорогие картины в мире, это не полотна Ван Гога или Рембрандта, а небольшие куски шелка с одним или несколькими иероглифами, написанными выдающимися мастерами иероглифики. Их стоимость на южно-азиатском рынке искусств может превышать цены на живопись упомянутых западных мастеров в несколько раз и исчисляется сотнями миллионов долларов. Так что, если вам не удаётся поразить воображение окружающих подсолнухами, растущими из чёрного квадрата, попробуйте нарисовать какой-нибудь иероглиф. Может быть, это и не принесёт вам состояние, но непременно утешит.
Итак, подразумевалось, что за год я подтяну английский для поступления в институт, но вышло наоборот: при том веселом и разгульном образе жизни, который практиковало в те годы комсомольское руководство, я позабыл и те два глагола, что знал, а артикль «the» стал читать как «тхе». Год прошел в канцелярской работе под лозунгом «заплыви за батарею и покройся пылью» и увлеченных занятиях кун-фу. А также в ночных рейдах новоиспеченного от комсомола внештатного сотрудника уголовного розыска (в составе банды таких же недорослей) по подвалам и притонам города в поисках антисоциальных элементов и наркоманов, благо вокруг Владивостока – в тайге – полно конопляных полей. До сих пор не прошло удивление от того способа, которым наркоманы собирают «дурь» – конопляную пыльцу для «пластилина», из которого потом делают начинку для наркотических папирос. Можете себе представить: они раздеваются догола и в жаркий солнечный день голышом носятся по конопляному полю – пыльца с конопли оседает на их телах, и они скатывают её с себя как грязь, прямо как в бане. Если вы сейчас «пыхтите», прошу прощения за подробности…
Через год моего жизнерадостного шефа – председателя комитета комсомола университета – перевели на работу в органы КГБ, чему он, наверное, пару дней был искренне рад, потому как долго этого добивался. Я случайно встретил его через месяц и был поражен произошедшей с ним перемене. Было впечатление, что его взяли в КГБ отрабатывать на нём методы ведения допросов подследственных. Глаза его потухли, весь он как-то съёжился, в разговоре со мной отводил глаза, и на мой вопрос «ну как там, в органах?» многозначительно промолчал… и я понял, что за любой из вариантов ответа полагаются различные лагерные сроки. Дальнейшей судьбы этого человека я не знаю: он мог стать у них большим начальником, а мог быть расстрелян за опоздание на работу.
С новым руководством я не поладил, вторично поступать в университет не стал по причине созревшего глобального разочарования в социалистическом строе (этим лозунгом тогда прикрывались все лентяи), поэтому комсомол, а заодно и уголовный розыск, я покинул. Нужно было искать новый род занятий и… жилье. Жить у отца и видеть в его глазах постоянный укор моей вселенской несостоятельности, было выше моих созревающих сил. Поэтому, чтобы получить комнату в общежитии, я устроился в женское музыкальное училище выдавать под расписку баяны на занятия. Вопреки моим ожиданиям девушки не видели разницы между мной и баянами. Из училища я ушел через два месяца, когда по ночам вместо девушек мне стали сниться эти самые баяны.
В общежитии я попал в комнату к двум милым, дружелюбным спортсменам-боксерам. Когда я впервые вошел в комнату, которую мне предстояло с ними разделить, то испытал самое яркое впечатление того времени: я снял останки своих стоптанных башмаков советской фабрики «Скороход» и поставил их между импортных, шикарных, умопомрачительно выглядевших ботинок аборигенов этой комнаты. Как будто между стоящих на рейде океанских белоснежных яхт протиснулся в клубах дыма залитый мазутом буксир. Так мне впервые открылось значение слова «роскошь», которое до этого я встречал в книгах, не понимая его. Книжное знание встретилось с жизненными реалиями, порождая представление об устройстве мира в отдельно взятой голове, поражённой тем, как одна и та же вещь может по-разному выглядеть.
Вскоре я обнаружил, что единственная книга, которую мои соседи прочитали в своей жизни самостоятельно, была книга о благородном разбойнике Робин Гуде. Владивосток – город портовый, поэтому они занимались тем, что отбирали у моряков и спекулянтов привозимые контрабандой из-за границы и продаваемые «из-под полы» джинсы, футболки, солнцезащитные очки и прочие недоступные тогда в СССР блага западной цивилизации. Это был прообраз рэкета, позже затопившего всю страну. Жаловаться в милицию потерпевшие не могли, так как сами нарушали закон. Поскольку к тому времени я уже несколько лет как издевался над своим хилым телом, заставляя его изображать то каратэ, то кун-фу (со стороны это выглядело убедительно и впечатляюще), а книгу о Робин Гуде тоже читал и идеи её воспринял, я с восторгом, свойственным экзальтированной и неразборчивой юности, присоединился к своим обаятельным соседям. Так – через баяны – я попал в мир легких денег и романтики «Большой дороги».
Жители Владивостока почтительно называли нас «третьей сменой», мальчишки с придыханием показывали на нас пальцами, мы были постоянными посетителями ресторанов. Тогда же я избавился от национального комплекса советского человека – от страха перед официантами. Несколько раз у меня были все шансы, не успев стать гурманом, сесть на суровую государственную диету, но судьба меня хранила для другого. Деньги, рестораны и суровая мужская дружба кончились, когда мои соседи – эти симпатичные гоблины – подставили меня и ограбили. И вот, без денег и некоторых иллюзий я возвращаюсь домой в Ленинград.
Ленинград, середина 1980-х.
С возвращением в Ленинград со мной происходит ещё одна метаморфоза. Я впервые осознаю, что нужно учиться. И не только нужно, но и необходимо. И прежде всего для того, чтобы уехать из СССР, этой «коммунистической» страны с её общественно-политической шизофренией; из страны, которую я за несколько лет самостоятельной жизни возненавидел за тотальное лицемерие, всеобщее удушье и кухонную безнадежность. А на Западе – земле обетованной, как тогда казалось, были востребованы эмигранты с образованием. Это потом, с прожитыми годами и опытом, в моем сознании появятся такие понятия, как Родина и патриотизм. А тогда я жил в стране, в которой большевики сделали все, чтобы граждане этой страны, кто люто, кто тихо, её ненавидели. Как сказал писатель Виктор Некрасов, эмигрировав во Францию: «Лучше помереть от тоски по Родине, нежели от злобы на родных просторах». И мой неосознанный протест «не быть как все» принял осознанную форму неприятия коммунистического режима. Произошло это после знакомства с книгами Солженицына и совместного распития спиртных напитков с диссидентами.
Кстати, о книгах. Родители привили мне любовь к чтению, и с четырех лет я уже много и увлеченно читал. На всю жизнь стал «запойным» читателем. Книги – единственное, что совершенно и бескомпромиссно примиряет меня с реальностью и самим собой. Хотя, если точнее, отгораживает от них. Я – наркотически зависимый человек, мое зелье – книги, и в моем фантомном шприце – миллионы кубов чужих фантазий, желаний и судеб.
Одна из непризнанных страстей человека – быть остановленным Словом.
Итак, пускай с ошибочного стимула, но в моем сознании появилось желание учиться и получить образование. (Это потом люди, создающие моё пространство, не раз заставят меня вновь и вновь вспоминать очень жизненный афоризм, гласящий, что «между знаниями и образованием примерно такая же разница, как между нравственностью и знанием уголовного кодекса»). Я опять вспомнил папин принцип «чугунного зада» и на целый год засел за учебники, готовясь к поступлению в какой-нибудь гуманитарный институт. Гуманитарный потому, что природа моего ограниченного ума безупречно гуманитарная – в школе я за десять лет так и «не смог» выучить таблицу умножения. Но вызванный внезапно к доске на уроке истории или литературы, я, не выучивший урока, в течение длительного процесса поднимания тела из-за парты считывал глазами с учебника нужную информацию, «держал» ее перед глазами, пока отвечал, и получал пятерки. К сожалению, этот фокус «зрительной памяти» не срабатывал с математикой, физикой и химией. Формулы, отпечатываясь на сетчатке глаза, до мозга не доходили. Поэтому моё будущее виделось мне туманно-гуманитарным.
Распорядок дня у меня был следующий: в шесть утра – подъём, пробежка по еще пустынному городу и старинному Таврическому саду, душ, кефир, и около семи часов я садился за письменный стол. Окончательно я его покидал в девять–десять вечера, перед сном. Скажете, что такому шалопаю, как я себя описываю, вы не поверите – откуда вдруг такая усидчивость и прилежание, но я и сам был поражен, когда словно озарением в меня вошло понимание, что мое будущее в моих руках. И я стал учиться так, как Павка Корчагин описывал строительство узкоколейки; как, вероятно, египтяне строили свои пирамиды.
Английский язык, История и Литература. Энтузиазма мне было не занимать, но моё искреннее желание учиться столкнулось с ограниченностью школьной программы. И если с английским языком всё понятно – хочешь знать, будешь знать, то Историю России, оболганную большевиками, я пробовал исследовать по толстым книжкам академиков. Я ещё не знал, что Историю переписывали не только большевики: под себя её основательно подгоняла династия Романовых, а монах Скалигер – отец исторической хронологии, как выяснилось, вообще считать не умел. Похоже, историю перевирать начали ещё охотники за мамонтами. Но до сенсационных публикаций историков Носовского и Фоменко – до истории «потерянного тысячелетия» – было ещё далеко.
Как пример самообмана человечества можно привести «открытие» Трои Шлиманом. Все знают, что Шлиман откопал Трою, и каждый знает, что Шлиман откопал не Трою. Пройдёт сколько-то времени и история эту разницу нивелирует, размоет в своём потоке. И провинциальный по отношении к Трое городок, которому «посчастливилось» попасться на глаза Шлиману, фактически станет Троей.
«Главное, вовремя подвернуться под лопату Шлимана!» – сказал, ухмыляясь, древнегреческий Урюпинск.
А столкнувшись с необходимостью проработать школьный курс классической русской литературы, я открываю для себя не понятого и не привитого в школе Достоевского и с головой ухожу в его уникальное, многомерное, паутинно-кружевное, завораживающее сознание пространство – пространство, в котором, как ни у кого другого, как будто в банке из под краски, рукой гения смешаны краски ада и краски рая. И оказывается эта «банка из-под краски» твоей душой, где уже не разобрать первоначальных цветов… Возникло даже дилетантское желание «положить жизнь на алтарь философии» и написать книгу о человеке, стоящем на ладони Достоевского.
Почти год я собирал по букинистическим магазинам материалы по Достоевскому – собрал неплохую библиотеку, что-то выписывал и подчеркивал с всевозрастающим чувством собственной значимости (чувством, которое, как мне предстоит понять со временем, даже умного человека делает невыразимо глупым), и, конечно, непрерывно читал самого Достоевского. Вокруг меня заклубились имена Бердяева и Флоренского, Розанова и Трубецкого, Ницше и Шопенгауэра… Я даже купил у книжных маклеров редкое собрание сочинений Канта. Принёс домой, с благоговением открыл, прочитал первые три страницы, закрыл с углубившимся уважением к Канту, и, обрекая себя на пожизненное протирание пыли с его корешков, никогда уже больше не открывал.
Мое желание исследовать Достоевского, а точнее – быть ему сопричастным, породило необходимость серьезного знакомства с философией. И если поначалу мне казалось, что «Заката Европы» Шпенглера и пары книг Фрейда будет достаточно, то после того, как вслед Платону и Николаю Кузанскому к экзистенциалистам Сартру и Камю присоединились имена Ясперса и Хайдеггера, я сдался. Я понял, что честному осуществлению моего намерения нужно посвятить большую часть жизни. Я сдался, а в душе навсегда осталось щемящее ощущение памяти нереализованной возможности. Сколько ещё будет в жизни таких нереализованных возможностей, но та – первая – произведёт самое сильное и обидное впечатление собственной несостоятельности.
А когда я читал наших классиков – восхитительного Гоголя, заблудившегося в мистических коридорах гениального абсурда и умудрившегося очень символично после смерти потерять свою голову2; уютного Гончарова с его «Обломовым», в корне изменившего мое отношение к собственному дивану; Толстого – «мучительного в подозрениях там, где у Достоевского прозрение» и чуждого в своём величии экономии бумаги и времени читателя; интеллигентнейшего писателя во враче Чехова, словно не писавшего, а выписывавшего рецепты; и обожаемого за сумрачную магию Леонида Андреева, в рассказах которого понимаешь где-то внутри, душой, что же это такое – «экзистенциализм», – читая, я жалел, жалел, что родился не в то время… Эх, как хотелось мне родиться старорусским крепостным помещиком: портить на сеновале пышногрудых задорных девок, и с ними же мыться в бане; небрежно отсылать пороть на конюшню нерадивых мужиков; ходить в сенокос, грудью вдыхая запах свежескошенного сена; от скуки судиться с соседом-помещиком за вздорный клочок земли; по осени стрелять перелетных гусей и уток; прослыть у окрестных помещиков хлебосольным хозяином и по зиме запивать с ними «горькую», как пили её наши деды и прадеды, а по весне приходить в себя и просыпаться вместе с русской землей… И знать, знать как «Отче наш», что в Петербурге блистают в полку и свете твои сыновья – и если суждено им пасть на поле брани за Отечество, то отцовское сердце наполнится торжественной печалью и гордостью, и уже только сыновьями своими оправдается перед Господом за непутёвую и никчёмную жизнь свою – жизнь старорусского крепостного помещика…
Извините, увлекся… чего только в голову не придёт.
«Главное – суп, всё остальное – литература». Оноре де Бальзак
Итак, я углубился в самообразование, но для поддержания жизни в склонившемся над книгами теле мне банально требовались деньги. Чтобы покупать кефир, булку и книги, я устроился в районном Доме Пионеров убирать классы и этажи, и, по совместительству, – руководителем детского кружка интернациональной переписки. Ни одного письма в дружественную Польшу или Венгрию мы, кажется, так и не отправили, но на занятиях я рассказывал детишкам про летающие тарелки, динозавров и привидения, и они меня обожали. Распахнутые детские глаза примеряли меня с мокрыми половыми тряпками.
Кроме того, я арендовал небольшой зал и открыл собственную школу боевых искусств кун-фу, памятуя восточный принцип «уча других, вы будете учиться сами», ну и нахальства мне было не занимать. Да и умел уже кое-что. Занималось у меня около десяти постоянных учеников. Что также приносило некоторый доход и позволяло основное время уделять учёбе.
Это была пора, когда жизнь открывает перед тобой множество дорог, и ты стоишь, окрыленный возможностями, на перепутье, и ещё не знаешь, даже не догадываешься, что дорога у тебя будет всего одна…
До сих пор у меня в голове не укладывается, как получалось совмещать напряженное обучение и занятия кун-фу с периодическими попойками с друзьями-собутыльниками. Кто только не перебывал в моей квартире, часто после чтения собственных стихов или обсуждения «общих оккультных проблем» оставаясь переночевать, а то и пожить у меня пару дней. А жить было где.
* * *
За два года моих странствий по Дальнему Востоку старинный дом в центре Ленинграда, в котором я вырос и имел комнату в коммунальной квартире, стали расселять для капитального ремонта, и в результате – уже через несколько месяцев после моего возвращения – я жил в отдельной квартире, так как жильцы пяти комнат нашей шестикомнатной квартиры разъехались, получив новое жилье. Я же ни в какую не соглашался переезжать из одной коммуналки в другую. Поменять шило даже не на мыло, а на обмылок. Мне предлагали как несемейному и одинокому комнату в двух-трех комнатной квартире с соседями в новостройках. И через какое-то время я вообще остался единственным жильцом на весь старый шестиэтажный петербургский дом с двумя дворами-колодцами, четырьмя парадными входами и четырьмя черными. Дольше всех еще держался алкоголик Сеня с первого этажа, но и он вскоре исчез, видимо, соблазнённый поллитрой. Про меня, после моих отказов, кажется, совсем забыли, и жил я так один в доме почти целый год, пока дом не стали отключать от газа и электричества и меня не вынудили переехать в комнату в новостройках (уже не имеющих отношения не только к Петербургу, но и к Ленинграду – это уже какая-то третья ипостась города, прорастающая уродливой архитектурой в душах живущих в ней людей, словно забором отделяя их от подлинной истории, которая только в душах и пишется).
И только написав эти строки, я вдруг вспомнил, что появление Люцифера в моей квартире произошло именно тогда, когда я жил один в этом пустом старом доме по улице Тверской. И числился этот дом под номером тринадцать. Что придает событию какой-то дополнительный мистический оттенок. Хотя какие тут могут быть оттенки, если сам Люцифер явился. И не важно, живут в этом доме или не живут. Понимаю, как-то по театральному получается. Но ведь было, можете не сомневаться. Дом до сих пор стоит на Тверской, перестроенный.
Справедливости ради, надо упомянуть, что человек я был абсолютно неверующий, крещён не был – типичное дитя коммунистической эпохи всеобщего безбожия, чем, вероятно, и объясняется мое легкомысленное отношение к визиту самого Князя Тьмы. Правда, до этого были в моей атеистической жизни непонятные моменты, которые меня настораживали и даже иногда мешали радоваться наступающему дню. Это я говорю о снах. Точнее, об одном и том же сне, повторяющемся раз в два-три месяца. Честно говоря, рассказывать о нём не хочется. И, что странно, после посещения Люцифера эти сны прекратились. Вот пишу эти строки и думаю, а может, эти сны предваряли появление Князя Тьмы на сцене моей жизни? Так сказать, увертюра…
Вот этот сон, всегда очень короткий: раздается звонок в дверь в этой самой квартире, где я вырос и жил на момент описываемых событий. Иду открывать дверь, ощущение полной реальности, всё знакомо, вот она дверь, со всеми ее запорами, звонками, царапинами и выбоинами, сотни раз перекрашенная, помнящая всех жильцов своей огромной шестикомнатной квартиры, и, когда я подхожу открывать её, на меня вдруг накатывает волна страшного знания: там, за моей спиной, в нескольких метрах, на общей коммунальной кухне, на газовой плите варится в оцинкованном корыте шестимесячный младенец. И поэтому дверь открывать нельзя… но руки сами тянутся к засову – я открываю… медленно, медленно, мне страшно… и тут из-за приоткрывающейся створки двери меня накрывает уже ледяная волна цепенящего ужаса: я откуда-то знаю, что за дверью стоит мерзкого вида убийца, который вот сейчас, через мгновение вонзит мне в грудь нож… В этом месте я всегда просыпался, выпадал из черноты сна, и ужас ещё некоторое время цеплялся за меня клочьями чёрного тумана… Комментировать не буду.
После посещения Люцифера я узнал, что дьявол есть. То есть, я не то чтобы поверил в него, я просто убедился в его существовании. Даже появилось желание нарисовать его, хотя рисовать я абсолютно не умею. И ведь получилось. Карандашом – черно-белый рисунок. Он удивительно напоминал булгаковского Воланда – «мой» Воланд получился во фраке, на фоне московских высоток, правда, лишённый приданного ему Булгаковым обаяния. И это тоже не совпадение. Это еще один кусочек Мозаики – с романом Булгакова «Мастер и Маргарита» у меня сложатся особые отношения. Рисунок этот я «на всякий случай» засунул в глубь архива, под самый потолок накопившихся бумаг, ещё не догадываясь, какую силу может нести такая «икона». Раз в несколько лет рисунок попадался мне на глаза, порвать его не поднимались руки – это было единственное, что я нарисовал в своей жизни. И только когда мистические испарения моей Мозаики начнут пропитывать материю, в которую с рождения было завернуто пишущее эти строки существо, уплотняя её страхом и проявляя на ней изображение, далекое от задуманной Богом идиллии, рисунок будет порван на клочки и спущен в унитаз.
Зная наперёд, сколь многого можно было бы избежать простым нажатием ручки. Мы часто не догадываемся, что унитаз гораздо нужнее, чем рог изобилия.
Убедившись в существовании дьявола, я, тем не менее, продолжал оставаться атеистом. Нет, я догадывался, что раз так много о Боге говорят и пишут, то вполне вероятно, «что-то там, где-то там, возможно и есть». Но вот потребности в Боге у меня не было. Как так может быть после встречи с дьяволом, спросите вы, и я честно отвечу: не знаю. Могу только предположить, что способность засовывать при опасности голову в песок свойственна не только страусу, но и отдельным представителям вида homo sapiens.
Вместе с тем, это был период увлечения теософической литературой и откровениями мистиков. Блаватская, Гурджиев, Бхагаван шри Раджнеш, мистические практики даосизма, чань-буддизма и суфизма. Тогда это была запрещенная литература, «доставаемая из-под полы». Если везло, то это был читаемый второй или третий экземпляр из-под копирки печатной машинки, а не седьмой, на котором приходилось почти угадывать буквы. Все это перемешивалось в моей голове интеллектуальной мастурбацией, оргазмируя ложными ощущениями постижения сокровенных тайн Вселенной.
Помню, как сильно меня напрягла одна прозвучавшая где-то легенда, поначалу, не задержавшись, прокатившаяся по сознанию фантомом. Но потом я почувствовал, что она во мне зацепилась, и фантом стал обрастать плотью вероятности. Легенда гласила о том, что только пятнадцать процентов из живущих на Земле людей обладают душой, продолжающей жить после смерти человека. Остальные восемьдесят пять процентов – фон, материал для самореализации настоящих пятнадцати процентов человечества, катализаторы для алхимических превращений в душах подлинных людей. И я припомнил слова знаменитого мистика Гурджиева: «Душа – это цель всех религий, всех школ. Это только цель, возможность – это не факт». Помню, что задался вопросом: если реинкарнация – переселение душ – существует, и души людей находятся в неком круговороте, а человечество увеличивается «в арифметической прогрессии», то откуда появляются новые души? И появляются ли? Или легенда права?
Вот пример, как необычная, эпатирующая мысль, книжный авторитет мистика и математика, посягающая на божественный промысел, могут создать взрывоопасный коктейль глупости, мастурбирующей в самой себе. Вероятно, так и возникают секты.
Примерно таким методом подборки я строил в собственном сознании различные концепции и выбирал из них те, которые казались мне наиболее «правильными» и уютными для меня – «постигающего истину».
Мне повезло, что я никогда не относился серьезно к своим интеллектуальным играм. Позже одной из моих любимых фраз, которым суждено сопровождать меня по жизни, станет призыв папы Иоанна ХХIII: «Никогда не принимайте себя всерьез!».
* * *
Забегая вперед, сообщаю, что дальнейшее повествование сопровождается картинами моего близкого друга, уже открывшего Двери посмертия, – русского художника Николая Владимировича Юдина. На протяжении своей жизни он создал цикл-мистерию картин «Арканы Таро» – часть из них и некоторые другие его полотна поддерживают мою историю.
1
«alter ego» – «второе я» (лат.) (здесь и далее – примечания автора).
2
Когда в 1931 году вскрыли гробницу Гоголя, оказалось, что в ней нет черепа писателя.