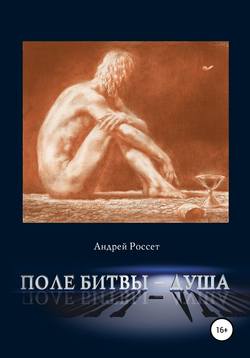Читать книгу Поле битвы – душа - Андрей Россет - Страница 5
ОглавлениеII
Несмотря на все рассказанное, в общем и частностях, жил я тогда безалаберным шалопаем – и до появления Люцифера и после – пока однажды утром раннего лета не отправился на городской пляж на берегу реки Невы, на которой, собственно, и расположен Санкт-Петербург. Таблички «Шалопаям вход на пляж запрещен» не было, и я расположился на песке, где со мной произошло событие, изменившее всю мою жизнь. Купаться было рано, вода в Неве нагревается только к концу лета, поэтому я расстелил плед и улёгся загорать. Научившись медитациями в кун-фу добиваться отрешённого состояния сознания, я разогнал самые шумные мысли и почти бездумно лежал, впитывая задержавшееся в весне, ещё не жаркое солнышко. И тут, просто, без затей, без грома и молний, меня посетил Господь Бог. Вы ухмыльнётесь, я же скажу, что на то Он и Бог, чтобы не соблюдать условности. Под закрытыми веками вдруг вспыхнул необыкновенный голубой свет. Сияние голубого цвета невероятной, изумительной чистоты затопило мое сознание, наполнило все моё существо. Самое удивительное ощущение – одухотворенная, душевная теплота, которую нёс этот свет. Он излучал доверие и нежность. Не было никаких сомнений, что свет пришёл именно ко мне. Он обнял меня, как соскучившийся отец обнимает своего ребёнка. С любовью и нежностью Он высветил вдруг во мне глубины, о которых я и не подозревал. И я узнал Его. Я узнал Бога. Я поверил сразу – на всю жизнь, как позже для себя сформулирую: «как любая бабушка в церкви». Мысленно я произнес: «Благодарю Тебя, Господи! Верую в Тебя!». И как был, лёжа, с закрытыми глазами, впервые в жизни перекрестился, как сумел. Растаяв, свет покинул меня, но во мне появились надежда и вера, что он вернется, что когда-нибудь я увижу его вновь.
Домой я возвращался другим человеком. В моей жизни появился смысл. Я его видел, я его ощущал. И теперь его следовало найти. Я уже твердо знал, кем хочу стать. Я хотел стать священником. И я решил стать священником.
Ну что же, как известно: «Благими намерениями вымощена дорога в ад»…
* * *
Напомню, что в те годы в СССР церковь в государстве существовала, но была невидима, то есть, вроде она есть, а вроде её и нет. И начал я свой поиск Бога через поиск духовной семинарии, где учат на священника.
Тогда я еще не знал, что искать Бога не надо. Бог всегда ждет тебя на одном и том же месте – том самом месте, где ты сейчас находишься…
На следующий день я стоял у дверей Ленинградской духовной семинарии и академии. Нужно заметить, что в юности я умел располагать к себе людей за счет того юношеского нахальства, когда ты уверен, что все должны тебя любить, и умеешь заразить этим энтузиазмом окружающих. Этой своей способностью я беззастенчиво пользовался всю жизнь. Только вот сила её иссякала по мере того, как мне открывалась правда о том, что любить меня, в сущности, не за что, а иногда даже и вредно…
В фойе семинарии, потратив несколько минут на ознакомление с правилами набора студентов, я с завистью рассматривал молодых людей в длинных черных рясах, проходивших в саму семинарию – куда мне вход был закрыт. «Пока» – мысленно загрузил я в себя любимую установку и внезапно обнаружил рядом с собой симпатичного молодого человека с длинными волосами, лучистыми глазами и одетым в одну из таких черных ряс, которые я с вожделением рассматривал как атрибуты небожителей. Для меня почти всегда большие происшествия и события начинаются с ничего не значащих мелочей, вот как, к примеру, эти рясы (потом я узнал: правильно их называть – подрясники). Молодой человек первым заговорил со мной, и, забегая вперед, скажу, что он принял живейшее участие в моей дальнейшей судьбе, уже примеривающей на себя чёрный подрясник семинариста. Звали его Михаил Царьков, учился он на втором курсе семинарии, и через полчаса мы стали добрыми приятелями. Мы гуляли по парку Александро-Невской лавры, где расположена семинария, разговаривали о вере, и, узнав, что я не крещен, Миша предложил свою помощь: у него есть знакомый архимандрит в одной из церквей и, если я согласен, то в ближайшее воскресенье меня можно будет окрестить. Я с радостью согласился и, не буду вас утомлять подробностями, вскоре был крещен в лоне нашей Святой Православной Церкви. Михаил стал моим крестным отцом. Ничего особенного, когда меня крестили, я не почувствовал – так, некоторое волнение от торжественности момента. Мы с Мишей тепло попрощались, договорившись о новой встрече, и я, не догадываясь, что делаю первые шаги в новой жизни, отправился в тот воскресный день в гости на дачу к своему хорошему приятелю, знакомому по общим занятиям спортом.
На дачу приятеля я ехал впервые, договоренности о встрече не было, и я отправился на «авось», без приглашения. Да-да, я ещё застал те времена, когда русские люди ходили друг к другу в гости без приглашения, вваливаясь поближе к ночи с бутылкой водки и радостным воплем «А вот и мы!..» А ведь и вправду было весело… Сейчас уже этого нет – в нашу жизнь вошли европейские правила этикета, и, кажется, из жизни ушла частичка её радости, и не самая худшая, если к радости можно применить этот эпитет. Но я отвлекся.
На дачу я приехал, но дома была только жена моего приятеля. Она сообщила, что хозяин вот-вот должен вернуться и предложила мне подождать на веранде. Я сел в кресло у большого круглого стола, накрытого скатертью до самого пола, и стал ждать. Дверь на веранду была приоткрыта, но внезапно она распахнулась, и неожиданно для меня через неё протиснулся огромный лохматый пёс зверской наружности. Не дав мне времени испугаться, он направился прямо ко мне и, махнув головой с хороший арбуз, ткнулся носом в колени, приглашая почесать за ушами. Что я с удовольствием и проделал, припомнив слова одного американского писателя: «Когда я вижу огромную, мохнатую и ласковую собаку, она производит на меня впечатление ангела, окутанного облаком. Она страстно желает быть хорошей»3. Получив от меня желаемое, этот «ангел», чуть не снеся меня с веранды вместе с креслом дружеским толчком, забрался под стол и занялся любимым собачьим делом – задремал. Скатерть его полностью скрыла. Через пару минут на веранду вбежала запыхавшаяся жена приятеля и сообщила: что она закрывает дверь, чтобы я «ни в коем случае не выходил из дома», потому что «она забыла, что у них с цепи спущен злющий пёс», что «он кроме хозяина никого не признает», «чужих вообще на дух не выносит», «перекусал уже уйму народа», что «я сама его боюсь – хожу по стеночке», «и вообще, на цепи ему самое место». «Вы не про эту собачку говорите?» – спросил я, приподнимая край скатерти. Последовавшая немая сцена могла быть достойна кисти Гоголя. Приехавший хозяин был изумлен не меньше жены, когда я бесцеремонно трепал пса за уши, демонстрируя «чудеса дрессировки».
Во время моего крещения священник сказал, что актом крещения с человека волею и милостью Господа смываются все наши предыдущие грехи и человек вступает в новую жизнь – жизнь христианина – с чистого листа. Позже я прочитаю, что к святым отшельникам, праведной жизнью обретшим чистоту души, из леса выходили и принимали из рук пищу не только олени, но и волки и медведи. Птицы лесные слетались к ним на ладони за крошками. Вот и я получил необычное лохматое подтверждение акту своего крещения.
* * *
Эстония, середина 1980-х.
При следующей встрече мой новый друг и крестный семинарист Михаил Царьков предложил мне поехать с ним от семинарии поработать в женский православный Свято-Успенский монастырь, расположенный на территории Эстонии (тогда – республики СССР) в поселке Куремяэ (или Пюхтицы). Я и не предполагал, что такое возможно, но Михаил обещал замолвить за меня словечко как за будущего семинариста и добавил, что за работу еще и хорошо заплатят. Летом работа заключалась в заготовке сена для скотного двора монастыря, а зимой на рождественских каникулах семинаристы ездили в монастырь на заготовку дров. Уговаривать меня не пришлось, и очень скоро я вместе с семинаристами пересаживался в городке Усть-Нарва из таллиннского автобуса в маленький рейсовый автобус до эстонского поселка Куремяэ.
Пюхтицкий женский монастырь стоит в эстонских лесах на высоком холме, красив необыкновенно, виден издалека. Что и послужило поводом для базировавшейся поблизости воинской части истребительной авиации выбрать купола собора монастыря учебной целью для своих летчиков. В дальнейшем я неоднократно наблюдал, как самолеты заходили на цель и с оглушительным ревом проносились над куполами. Иногда можно было разглядеть силуэт летчика в кабине СУ-27. Говорят, если летчик этой машины включает форсаж двигателя ниже четырехсот метров над землей, люди внизу погибают от звукового удара. Однажды, один из самолетов потерял учебную ракету-болванку, и она шлепнулась в грязь скотного двора монастыря, «насмерть» перепугав монашек. Безобразие это продолжалось до тех пор, пока в спор между монастырем и летчиками не вмешался местный Владыка – митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, потом ставший Его Святейшеством Патриархом Московским и Всея Руси, и не убедил наших славных авиаторов не пугать монашек. К моему рассказу этот эпизод не имеет никакого отношения, но я не удержался от этого этюда эпохи безбожия, типичного для того времени. Сегодня уже такое вряд ли возможно.
Посещения монастыря, в который я ездил последующие четыре года каждые лето и зиму, остаются одними из самых светлых моих воспоминаний. Надеюсь, там ничего не изменилось. Монастырь окружён внушительной защитной стеной, сложенной из огромных каменных валунов, с башнями-бастионами по углам, и производит впечатление средневекового рыцарского замка. Внутри по всему монастырю стараниями сестер-насельниц разбиты цветники из десятков сортов роз, и когда ты идешь среди них по уютным аккуратным дорожкам, и большие мохнатые шмели с басовитым гудением облетают кусты благоухающих роз, создаётся впечатление, что ты попал в филиал рая на Земле. Тишина, изредка нарушаемая колокольным благовестом. Покой. Все звуки приобретают какой-то внутренний, созвучный окружению смысл. Спешащие по своим послушаниям монашки в длинных черных одеяниях с низко опущенными головами вдруг заставляют и тебя задуматься о своём месте в мироздании. И будет ли оно когда-нибудь у тебя – «своё место»?
Нас – приехавших семинаристов (к коим я уже нахально себя причислял – у меня всегда намерение совпадает с ожиданием его свершения) – разместили в одной из башен, и я с замиранием сердца (вот оно – начало сказки!) поднимался по спиральной деревянной лестнице наверх, скрипя ступенями и ощущая себя перенесшимся чудесным образом на сотни лет назад.
Отношение сестер монастыря к нам было удивительно заботливым. Они в нас видели будущих священников. Мы их ласково называли матушками, хотя матушка в монастыре была одна – мать-настоятельница. Жили мы в светлых чистых кельях, всегда свежее постельное белье. Питались отдельно, кухня и монахини-поварихи у нас были свои. Кормили нас так, что моим рассказам по возвращении никто не верил. Если не было поста, на столе могли запросто стоять караси в сметане или фаршированная яблоками утка. Хозяйство в монастыре было натуральное, всё своё: свежее молоко и сметана, рыба и птица, всегда на столе в качестве закусок стояли квашеная с клюквой капуста, соленые грибы, огурцы, мочёные брусника и яблоки. Матушки пекли нам пирожки и сырники, блины и оладушки, угощая медом с монастырской пасеки, земляничным и малиновым вареньем из собственных запасов. Чай заваривали душистый, на одним им ведомых травах.
От нас же требовалось то раскорчевать от камней поле (та еще работа, скажу я вам – частенько приходилось поминать монастырскую оппозицию), то прорыть какие-то канавы, то перетаскать мешки или перекрасить крышу на скотном дворе. Но больше всего мне полюбилась пора сенокоса. Идут по полю в ряд сёстры, уже не в чёрном, а в русских цветных сарафанах, волосы убраны в белые платки, и поют церковные песнопения, плавно взмахивая косами. Нас, неумех, к косам не подпускали. Мы орудовали вилами, собирая сено в большие стога. Болели мозоли на ладонях, ныли натруженные плечи… но как было весело, стоя на верхушке стога, уворачиваться от летящих на тебя со всех сторон охапок сена! Отчего только мне не придётся уворачиваться в моей дальнейшей жизни, но никогда больше не будет такого ощущения сопричастности крестьянскому труду (труду, наполненного великим смыслом жизни), как тогда – у парящего на верхушке стога, где, казалось, меня поддерживают в воздухе крылья, сотканные из восторга. Обед нам привозили в поле, и сейчас я не могу вспомнить, что было вкуснее –горшочки с разнообразной снедью, или сам воздух, наполненный запахами разнотравья, свежескошенной травы и благодарностью Господу за окружающую красоту.
Ещё мы кололи дрова. Из наколотых дров сооружали на зиму большие круглые башни высотой по 6 – 8 метров. Верх башен от дождя закрывали наколотыми плашками – конусом. Раскиданные в разных местах монастыря, эти поленницы, похожие на древние сторожевые башни, создавали эффект декораций к средневековой жизни, словно напоминая, что время остаётся неизменным, и только вокруг человека всё меняется.
И хотя работали мы много, работа была тяжелая, рабочий день не нормирован, но работалось с легким и радостным сердцем, день пролетал незаметно, и сон был глубок и праведен.
Уезжать всегда не хотелось. И хотя, как правило, ты сам себе назначал день отъезда, всегда было грустно идти к матери-настоятельнице за благословением, получать белый конверт с заработанными деньгами, и потом из окна автобуса смотреть, как уплывают из твоей жизни стены монастыря и купола его церквей…
Однажды, кажется на третий год, как я стал посещать монастырь, мать-распорядительница работ поинтересовалась, нет ли среди нас тех, кто не боится высоты. Оказалось, что монастырь собирается перекрасить купола центрального собора, и нанял для этого специальную бригаду альпинистов. И хорошо бы предварительно построить для альпинистов строительные леса на крыше храма. Не знаю, кому пришла в голову эта «технотронная» мысль, но человек этот наверняка впоследствии об этом не раз пожалел. Требовалось три человека. Несмотря на то, что работа высоко оплачивалась, скаламбурю – поскольку работать надо было высоко, вызвались только двое. Одним из этих двоих, как вы уже догадались, оказался я.
Высоты я не боялся совершенно. Это не имеет отношения к числу моих немногочисленных достоинств (кажется, их всего два или три, хотя, может быть, я себе льщу), скорее, относится к особенности характера, его способности наслаждаться лежащей под ногами бездне. Когда я оказывался с высотой один на один, в душе рождался необъяснимый восторг, словно заклеивающий голос разума ответственного за страх пленкой скотча, то есть вроде он и был, но слышно его не было. Тогда я не знал, чем это объяснялось: особенностью психики, генетической памятью, или памятью возможных реинкарнаций, но ответ на этот вопрос придёт с одним из фрагментов той таинственной Мозаики, о которой весь рассказ ещё впереди. Это я пока, по закону жанра, описываю вам милые моей памяти картины – эти застывшие в янтаре времени сцены жизни, которым ещё предстоит лечь на одну из чаш весов Немезиды вместе с действительно значимыми поступками, мыслями, эмоциями и намерениями. Хотя, быть может, самым тяжелым на этой чаше окажется не само содержимое, а его последствия… Но не будем о грустном, вернемся к рассказу.
В детстве, когда отец служил подводником, и мы жили на Камчатке, я в возрасте восьми – девяти лет полез на скалы, чтобы нарвать маме к 8 марта букет красивых голубых цветов, росших пучками в расщелинах между камней. Не помню, на какую высоту я поднялся к тому моменту, как сорвался со скалы. Не помню, как сорвался. Помню, как очнулся внизу, лежащим на камнях: немилосердно печёт солнце, голова гудит, в левой руке зажат пучок этих самых голубых цветов. Это происшествие ничуть не отбило у меня охоты в одиночку лазать по скалам. В детстве я с энтузиазмом и без всякого страха исследовал камчатские скалы, потом скалы под Владивостоком, куда перевели служить отца, а позже, в юности, сменил их на скалы Крыма. И никогда не пользовался страховкой. Что говорит либо о том, что моя интуитивная вера в Ангела-Хранителя имела на то основания, либо о врожденном идиотизме.
Так что, когда монастырю понадобились волонтеры без страха высоты, я вызвался первым. Я рвался тут же, немедленно забраться на купола без страховки и покрасить их, не ожидая приезда альпинистов. Как ни странно, вместе со мной, молодым и «безбашенным», вызвался уже седой, на пятом десятке лет семинарист, веселого, общительного нрава, но с затаённой печалью в глазах, как будто своим веселым нравом он хотел спрятать от окружающих какую-то живущую внутри боль. Он оказался бывшим альпинистом, бывшим ремонтником высотных линий электропередач, бывшим машинистом электровоза, и… бывшим прокурором, что отчасти объясняло печаль в его глазах. Преисполненные важностью возложенного на нас поручения и его эксклюзивностью, мы с «прокурором» развели такую бурную деятельность, что по монастырю поползли слухи, будто собор собираются сносить, а на его месте строить новый. То, что мы построили на крыше храма, возле одной из башен с куполом, назвать строительными лесами мог бы только поклонник творчества Сальвадора Дали. Да и сам процесс постройки напоминал сцену заколачивания гвоздя из знаменитого романа Джером К. Джерома «Трое в лодке не считая собаки». Приехавшая бригада строительных альпинистов, нещадно матерясь, неделю разбирала то, что было построено нами за три дня.
К счастью и нам на руку, команда альпинистов приехала не в полном составе – часть из них задержалась на другом объекте, часть уехала на спортивные сборы (среди членов команды был чемпион Советского Союза по альпинизму). Чтобы выполнить пожелание матери-настоятельницы успеть покрасить купола к празднику Успения Богородицы, когда на праздник ожидался Владыка – митрополит Алексий, трем альпинистам понадобились в бригаду ещё два человека. И мы с «прокурором», выпятив грудь колесом, сделали шаг вперед. Опыт у нас уже был. После собеседования, на котором я изощренно пытался оправдать построенную нами на крыше храма деревянную конструкцию тягой к сюрреализму, нас завербовали, поскольку других желающих все равно не было.
Куполов – пять. Наша бригада состояла тоже из пяти человек. На каждого – по куполу. Альпинисты имели индивидуальное снаряжение, у нас такого снаряжения не было. Поэтому под альпинистские люльки для сидения в воздухе мы с «прокурором» приспособили найденные в одном из подвалов монастыря широкие монтажные пояса с цепями. Их используют электрики, чтобы подниматься на столбы линий электропередач. Пропущенные на поясе через стальные кольца веревки служили одновременно и страховкой и стропами, обернутыми вокруг основания купольного креста. Упираясь ногами в купол, я висел в воздухе спиной к земле, почти в горизонтальном, параллельном земле положении. Банка краски на поясе, в руках – малярная кисть, привязанная к длинному шесту. Собор высоченный, да еще стоит на высоком холме, и подо мной до горизонта, далеко внизу, всюду, куда доставал глаз, раскинулись густые эстонские леса. А прямо перед глазами, слезящимися от ядовитой краски, перед глазами счастливого человека, добившегося своего, – облупившаяся жесть купола. И я чистил, и красил, и красил, и красил этот самый купол. А что еще оставалось делать? Невозможно было отлучиться, даже чтобы пописать. Когда нас вербовали, во фразе «те, кто не боится высоты…» опустили вторую часть: «… и имеют крепкий мочевой пузырь». Перерыв мы делали только на обед. Задрав головы, нами гордился и нам сопереживал весь монастырь.
Никогда мне не снились такие яркие, необычные сны, как в те ночи или послеобеденные полчаса сна, когда мы спускались с куполов. Краска, которой мы красили и которой дышали, использовалась при покраске корпусов кораблей ниже ватерлинии. Кто не знает: ниже ватерлинии – это ниже уровня воды. То есть эта краска не боялась соленой морской воды. Поэтому снились мне дельфины, резвящиеся в океанских волнах. Я резвился вместе с ними. Токсикоманом я не стал, но спустя пару месяцев хирург удалил внутри меня какую-то вену, пережатую монтажным поясом.
Ещё я хорошо рассмотрел летчика в кабине истребителя СУ-27, облетевшего купола. Надеюсь, он тоже хорошо меня рассмотрел, потому что, несмотря на панический ужас, сотрясавший организм на клеточном уровне от звука близко пролетающего самолета, я не удержался и показал летчику жест, привитый нам голливудскими фильмами. Не подумалось только, что жест этот не к месту, не монастырский, да и стоял я к ангелам ближе, чем обычно, могли на свой счет принять. Когда прилетел этот демон смерти, я как раз поднялся на купол передохнуть и, обняв рукой крест, стоял подобно ангелу на Александровском столпе Дворцовой площади Петербурга.
Эти две недели, в течение которых я вместе с голубями размахивал крыльями между куполов храма Пюхтицкого Свято-Успенского монастыря, на всю жизнь пропитали стенки моего сердца гордостью за выполненную работу. Я не только «построил дом, посадил дерево и вырастил детей», но ещё и покрасил купол церкви. Когда подо мной митрополит под звон колоколов въезжал в монастырь, я ещё клал последние мазки мастера на свое творение.
Нигде так не ощущается время и ответственность за него, как в монастырях. Там время – мерило делания жизни. Мне довелось побывать не только в женском монастыре. Одно время я всерьёз – насколько можно быть серьёзным в двадцать три года – собирался постричься в монахи и жил на послушании в Псково-Печорском мужском монастыре. Известный своей прозорливостью старец – видевший людей насквозь отец Иоанн (Крестьянкин)4 – отговорил меня от этого шага, сказав просто, но очень убедительно и, как всегда по своему обыкновению, весело улыбаясь: «Зачем тебе в монахи? Тебе в монахи не надо…» И действительно, оказалось – мне не надо… Но об этом в другой раз, при случае.
Сейчас вспомнилась вывезенная из Печорской обители поговорка. Приписывают её Александру Македонскому: «Мне уже двадцать один год, а я ещё ничего не сделал для бессмертия». Монахи переиначили её на свой лад. Поглядывая на часы, какой-нибудь монах сокрушался: «Уже двенадцать часов дня, а я ещё ничего не сделал для бессмертия…»
Есть время ёрничать, а есть время хмуриться. Как сказано в одной книге: время собирать камни, и время сбрасывать их на головы прохожих.
Неверно думать, что время нельзя увидеть, нельзя потрогать. Обозначение времени на циферблате – мгновения, минуты и часы – это не время – это гипотеза времени. Подлинное время человека – его кровь. Самый совершенный часовой механизм – сердце человека. В нём – от рождения и до смерти – источник времени. Время не может быть общим. Нет времени человечества – есть история человечества. Но есть время человека. Всё может обмануть тебя – твои чувства, твой ум, и только сердце – от первого и до последнего мгновения – честно отдаст всё рожденное им время. Когда сердце останавливается – останавливается само время. Кровь Иисуса тоже была временем, но это было первое время, которое пролилось в Вечность…
Летом первого посещения Пюхтицкой обители, возвращаясь из монастыря, Михаил Царьков предложил мне заехать по пути в Усть-Нарву к известному в тех местах священнику-экзорсисту отцу Василию, и посмотреть на чин «отчитки» – обряд изгнания бесов из одержимых. Тогда я плохо себе представлял, что это такое – одержимость бесами, и как их можно «отчитать», то есть, избавиться от них. Ну, явно, не погрозить пальчиком, и уж точно не чтением вслух одноименного романа Достоевского «Бесы». По оккультной литературе я представлял себе бесов, если они и существуют, вроде неких (почти абстрактных) энергетических сущностей враждебных человеку. Полагаю, что каннибалы для Кука тоже долгое время были абстракцией.
Любопытство, как известно, «сгубило кошку», и вот мы уже в Усть-Нарве. Нам повезло, и мы подъехали к старой деревенской церкви, когда обряд изгнания бесов только начинался. Отец Василий оказался стареньким, невысокого роста, с большой белой бородой и теми проницательными и понимающими глазами, которые я потом часто встречал у истинных священников, проводящих свое служение в постах и молитвах. Отец Василий отслужил молебен, и люди стали подходить к нему, батюшка окроплял их святой водой и протягивал для целования крест. Некоторые шли сами, но некоторых вели, они вырывались, и церковь была наполнена звуками, которые я никак не ожидал здесь услышать. Кто-то рычал или выл, кто-то кукарекал, мычал или лаял, одна женщина издавала утробный рык «не хочу, не хочу, не хочу…»; одержимые, вырвавшись из рук сопровождающих, катались по полу, бились об пол головой, у некоторых шла изо рта пена, их ловили и вели к алтарю.
Из уст бесноватых вырывалось: «Грешите – каетесь? Грешите – каетесь? Всех бы разорвал…», «Не ты сажал – не тебе гнать… не ты сажал – не тебе гнать…», «Крест сними… сними крест… жжёт… сними крест…» Отец Василий продолжал окроплять святой водой и прикладывать крест к губам бесноватых. Некоторые после этого успокаивались, некоторые нет, и их выводили из церкви. К отцу Василию образовалась очередь. Встали в неё и мы с Михаилом. Впереди нас женщина утробным мужским басом, который вряд ли ей принадлежал, выкрикивала какие-то гадости. Кто-то, видимо, родственник, подталкивал её к священнику. Мы с Мишей получили свою порцию святой воды, приложились к кресту – бесов в нас не оказалось, и мы вышли из церкви.
Боже, как хорошо – залитый солнцем день, белые на голубом облака, ветер шумит зеленой листвой деревьев, какой контраст с тем, что только что, мгновение назад, было вокруг меня. Увиденное сразу стало отдаляться от сознания подобно просмотренному фильму ужасов: остается неприятный осадок, но в жизни такого быть не может, со мной такого никогда не случится, впечатление от фильма тут же выветривается реальностью. Я провожал взглядом спины уводимых родственниками несчастных, которым сегодня отец Василий помочь не смог.
Михаил рассказал мне, что церковь не одобряет «отчитку» бесов, и отец Василий занимается ею на свой страх и риск, желая облегчить участь одержимых. Ошеломлённый столкновением с пугающей, чужой моему уютному пространству реальностью, я засыпал Мишу вопросами: «почему не одобряет?», «кто эти бесноватые?», «почему им не может помочь психиатрия?» На часть этих вопросов он ответил, на некоторые я получил ответы сам, на какие-то ответила сама жизнь. Так, спустя несколько лет, я увидел документальный фильм о сеансах Кашпировского на стадионах, когда бесы вселялись в людей табунами, и после сеанса этих людей развозили по психиатрическим клиникам (что само по себе бессмысленно). Главный врач-психиатр Москвы, до того человек неверующий, ушел с работы и стал священником. Выступая по телевизору, уже в сане священника, он рассказывал, что плакал, видя, как психиатрические лечебницы наполняются маленькими детьми, изо рта которых вылетают не принадлежащие им вой и хула на Христа, а в глазах застыли боль и непонимание происходящего.
Тогда в Усть-Нарве Михаил объяснил мне, что тому, что церковь не одобряет «отчитку» бесов, есть серьезные причины. В Евангелии сказано, что если изгнать из человека беса, а он – человек – не будет держать свой дом (читай: душу) в чистоте, то бес вернётся и приведёт «с собою семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там, – и бывает для человека того последнее хуже первого» (От Матфея, 12 – 45; от Луки, 11 – 26). Разве мог я тогда знать, что пройдет много лет, и я на собственной шкуре испытаю беспощадную правду этих слов.
Еще в Евангелии Господь говорит о бесах, что «род сей изгоняется только молитвою и постом» (От Матфея, 17 – 21). Запомним это речение, мы ещё к нему вернемся.
Тягостное впечатление оставило посещение отца Василия в Усть-Нарве, но молодость быстро забывает плохое и ещё не умеет тяготиться воспоминаниями.
3
Уильям Джемс.
4
Вскоре после смерти отец Иоанн Крестьянкин был предложен к канонизации Русской церковью как святой.