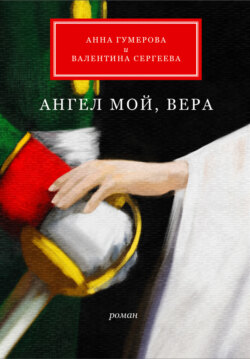Читать книгу Ангел мой, Вера - Анна Гумерова - Страница 12
Часть 1
Глава 8
ОглавлениеКвартира в пять комнат, с удобной, хотя и не новой мебелью, показалась ей уютной и веселой. Столы, стулья и шкафы были дешевы, зато прочны, и даже потертые чехлы на креслах ее поначалу умилили. Казенщины и скуки, которой она так боялась, не было помину – все просто и непритязательно, как в семейных пансионах средней руки, где хозяева больше озабочены благорасположением жильцов, чем модой. Мысленно Вера Алексеевна уже прикидывала, что здесь можно будет подправить и изменить, но пока что ее не раздражали ни облупленные углы половиц, ни сломанная щеколда, ни покривившаяся дверца комода. Вера Алексеевна вдруг поймала себя на мысли, что новая мебель и свежий паркет растревожили бы ее гораздо сильнее.
Артамон, неверно истолковав молчание жены, решил, что та разочарована. Смущенным торопливым шепотом он пустился объяснять, что обставить квартиру заново без особого разрешения будет затруднительно, что каждый предмет где-то там записан и числится… Вера Алексеевна твердо объявила, что всем довольна и намерена отдыхать с дороги. Оставив жену с m-lle Софи, Артамон взялся командовать слугами, таскавшими вещи. Все старались ходить на цыпочках, помня, что барыня отдыхает, и от того, как водится, шумели еще больше. Старков успел побраниться с Гаврилой, утверждая свое старшинство, какой-то ящик с треском перевалился через порог, захлопали двери, в буфетной зашуршала Настя… муравьевская квартира оживала.
Вечером к Артамону заглянули брат, Сергей Горяинов и двое приятелей – поздравить с новосельем. Разговор велся все так же пианиссимо, чтоб не беспокоить Веру Алексеевну.
– Что же, ты с отцом помирился? – спросил Сергей Горяинов.
– Да мы ведь и не ссорились.
– А венчались все-таки у нас.
– Папаша добрый… он не будет долго сердиться.
– Кстати, это не у вас ли была история, когда сына-офицера отец наказал?
– Не у нас, а у драгун, – ответил Александр Захарович. – Вообразите! Верста ростом, лет под двадцать – и такой конфуз. В городе он что-то запутался, закутил, проигрался и вдобавок к отцу в имение приехал выпивши. Папаша наутро явился в комнату, где тот ночевал, с четырьмя лакеями и пучком розог. Бедняга от стыда и от боли целый день пролежал пластом. Потом, говорят, папеньке ручки целовал, благодарил за урок.
– Ну вас!.. Глупости какие-то рассказываете. – Артамон покраснел и, чтобы скрыть это, отошел к окну. – Только дразните…
– Вольно ж тебе принимать на свой счет. Кто виноват, что ты до сих пор папеньку боишься?
– А тебе, Саша, стыдно! Похлопотал бы лучше, чтоб нас помирить.
– Пускай Катишь хлопочет, – бесстрастно ответил Александр Захарович. – Она твоя первая потаковщица.
– Ревнуешь?
Брат пожал плечами.
Катишь явилась наутро – полная сил, в модном чепце, шурша широчайшим подолом.
– Представь же наконец меня моей belle-soeur[20], – потребовала она, многозначительно подчеркнув «наконец», и, не дожидаясь, обратилась к Вере Алексеевне: – Я очень рада познакомиться с вами, chère cousine[21].
И тут же, едва ошеломленные хозяева успели прийти в себя, воскликнула, звучно щелкнув веером:
– Непременно нужно устроить прием! Иначе просто неприлично, милые мои. Потом можете сидеть отшельниками сколько вам угодно. Ты, Артемон, кажется, совсем одичал за год. В Петербурге, ma chère cousine, вы принадлежите в первую очередь свету, а потом уже себе… Лакеев напрокат можно будет взять в клубе, это я все устрою.
Вера Алексеевна удивленно взглянула на золовку.
– Ты не трудись, Катишь, – искренне сказал Артамон. – Зачем тебе хлопотать? Мы сами устроимся. В конце концов, это прелюбопытно даже.
Катерина Захаровна вспыхнула… судя по выражению лица, она раздумывала, оскорбиться или нет. Брат едва ли не впервые гласно отверг ее заботу, беззаботно и бездумно, словно прежнее попечение ничего не стоило, и вдобавок сделал это в присутствии другой женщины. Но тут же графиня Канкрина опомнилась и милостиво улыбнулась.
– Ты, Артемон, посиди здесь, а мы с Верой Алексеевной посекретничаем, – ласково прожурчала она, беря Веру Алексеевну под руку и увлекая в соседнюю комнату.
Там, устроившись в кресле и обмахнувшись веером, она взглянула на невестку испытующе и с любопытством и улыбнулась вновь – но уже не милостиво, а устало.
– Кузина, голубушка, вы не обижайтесь. Просто я опытная, ну и, разумеется, хочу помочь, – объявила Катерина Захаровна со всем пылом двадцатитрехлетней женщины, уже два года прожившей в браке. – Ведь вы, должно быть, в Петербурге не знаете, где и что достать… а мне так хочется, чтобы все у вас было самое лучшее! Вы не затрудняйтесь, право. Если вдруг что-нибудь понадобится, только дайте знать, – она заговорщицки склонилась к Вере Алексеевне. – Артемон, бедняжка, совсем не знает счета деньгам, ну и я, конечно, привыкла его баловать по возможности…
Вера Алексеевна слегка растерялась. Канкрина, предлагая одалживаться у нее без стеснения, в то же время как будто намекала, что брат слишком часто пользуется ее услугами. И как надлежало ее понимать?
Артамон, от волнения расхаживавший по комнате, вытянулся, как охотничья собака, когда женщины показались на пороге.
– Вы не поссорились? – тревожно спросил он.
– Полно, братец, разве мы можем поссориться? – отвечала за обеих Катерина Захаровна. – Мы ведь обе любим тебя, глупого, без памяти.
После ухода золовки Вера Алексеевна некоторое время сидела в задумчивости.
– Артамон, тебе не кажется, что мы слишком часто одолжаемся у Катишь? – осторожно спросила она.
– Отчего же не брать, если она сама предлагает? – удивился Артамон. – Ей это вовсе не обременительно… Они даже и обидятся, если отказаться.
Муж как будто совсем не понимал, отчего Вера Алексеевна чувствовала себя неловко от благодеяний Канкриной. Он, привыкший принимать денежные подарки от сестры и зятя, считал это в порядке вещей и даже удивился бы, если Катерина Захаровна вдруг перестала раскрывать для него свой портмоне. Катишь баловала старшего брата, как добрая безалаберная нянька, которая сует воспитаннику конфекты перед обедом.
– И все-таки, может быть, это не совсем удобно, – настаивала Вера Алексеевна. – Пойми, мне очень приятно, что сестра так заботится о тебе, но…
Он вдруг смутился, даже сконфузился, и странно было видеть почти детский испуг на его лице.
– Боже мой… ты, Веринька, ведь не думаешь, что я смотрю на Катишь как на золотой мешок? Нам с Сашей было бы весьма затруднительно служить, если бы не она, это верно. Но заверяю тебя, я привязан к ней бескорыстно, с самого детства. Катинька – ангельчик, я ее люблю сердечно… я бы так хотел, чтоб и вы с ней друг друга полюбили!
«Женщины редко бывают по-настоящему теплы друг к другу, – подумала Вера Алексеевна. – Особенно если любят одного мужчину».
Вслух она этого не сказала.
Следующая неделя прошла в непрерывных визитах. От верчения из дома в дом, от необходимости постоянно улыбаться, говорить любезности и выслушивать поздравления у молодых шла голова кругом. Артамону нравилась столь бурная смена впечатлений, хотя к вечеру он и сам чуть не падал от усталости. Вера Алексеевна, обыкновенно измученная до полуобморока, находила еще в себе силы смеяться, когда он в комических красках разыгрывал перед нею сцены минувшего дня. Муж и правда проделывал это уморительно, подмечая в родственниках и знакомых такие черты, над которыми он ни за что не решился бы подтрунивать в свете. Зато в обществе жены можно было дать себе полную волю, к большому обоюдному удовольствию.
За устройство званого обеда, который предстояло дать петербургским родственникам и друзьям, Вера Алексеевна взялась одновременно с жаром и робостью. Оказалось, что в доме нет ни бокалов для шампанского, ни рюмок для мадеры, а есть только простые стаканы для вина; что приборов недостает; что обедать по-московски, в два часа, в столице просто смешно; что велеть Старкову и Гавриле прислуживать за столом – значит совершенно оскандалиться; что обед непременно попадет на Рождественский пост и придется готовить кушанья двух родов; что в Петербурге все значительно дороже, чем в Москве. Узнав, сколько стоят фрукты и сладости, Вера Алексеевна пришла в ужас. Муж, разумеется, передал ей свой портмоне с наказом распоряжаться и тратить без церемоний, но это был жест скорее великодушный, чем исполненный смысла. Портмоне был довольно тощ, и Вера Алексеевна с тоской смирилась с тем, что неизбежно придется влезть в долги. Она все-таки настояла, чтобы всё взятое у Канкриных было непременно возвращено, и Артамон даже обещал, но Вера Алексеевна чувствовала, что ей придется выдержать не одну схватку.
Катерина Захаровна требовала, чтобы вместо отдельного стола с закусками в гостиной их, на французский манер, подавали на подносах гостям прямо за обедом. Егор Францевич передал для сведения Веры Алексеевны, что в лучших домах вошло в моду украшать стол цветами, но ни в коем случае не в вазах. Даже Александр Захарович, дотоле совершенно равнодушный к обустройству семейного гнезда, счел своим долгом заметить, что за вилки с костяными ручками их засмеют и что вообще было бы очень мило и оригинально завести салфетки с вышитыми инициалами. В конце концов решено было устроиться попросту – на закуски пустить копченую рыбу, сыр, pâté froide[22] и английскую ветчину, в первую перемену подать вареную индейку с картофелем и баранину a la Maintenon, во вторую – дичь, пудинг и бланманже, затем десерт. Артамон просил, чтобы непременно было мороженое, уверяя, что без него никак не может обойтись ни одно порядочное пиршество в Петербурге. Жена, по крайности, убедила его, что без оранжерейных апельсинов можно обойтись наверняка…
Вдобавок Сергей Горяинов, на правах родственника, немилосердно трунил над простодушными московскими нравами и рассказывал чудовищные небылицы, например, что на званых обедах там, как в деревне, подают рубцы, студень и гуся с груздями. Об одном недавнем обеде, где ему довелось побывать, он говорил, округляя глаза от ужаса и, видимо, полагая, что это очень забавно:
– А хозяйка, вообразите, сама обносила нас шампанским и наливала в бокалы! Да и шампанское-то было теплое. Вот так праздник!
– Давно ли, корнет, ты стал таким утонченным конесером[23]? – рассеянно спрашивал Артамон. – На моей памяти ты шампанское не только из бокала, но и из горлышка тянул не задумываясь.
Сергей смущался и умолкал.
– Вы вот лучше рассудите, как мне быть, – со смехом продолжал Артамон, – и кого мне вести к столу – Катишь как министершу или m-me Башмакову как жену моего полкового командира? Вот и изволь тут не осрамиться и не испортить себе карьеры. Тебе, Веринька, легко… женщинам ломать голову не приходится. А любезная Катинька меня живьем съест, коли шелохнусь не так.
– Для Башмаковой непременно постное готовить, – зевнув, напоминал Сергей Горяинов.
– Ей-богу, Веринька, что хочешь говори, но треску к столу подавать как-то даже и неловко. Треска – вещь обыкновенная, ее каждый день есть можно, а при гостях оно не того… Кстати, мне тут рассказывали историю. У одного помещика, когда гости обедали, ставилась на стол ваза с водой, в которой плавала мелкая рыба. Однажды назвал он к себе много гостей, а блюд наготовлено было мало. На нижнем конце сидел один молодчага – уланский поручик. Так вот, когда обнесли его блюдом в третий или четвертый раз, привстает он со своего места, вонзает вилку в рыбку, подает человеку и говорит: «Вели, брат, изжарить – больно есть хочется». Каково?
– Это, должно, в провинции где-то… в Москве…
Вообще же от Артамона было больше веселой суеты, чем подмоги, но с помощью Софьюшки, Насти, Гаврилы и взятого в клубе повара Вера Алексеевна кое-как управилась. Вышло даже дешевле и лучше, чем она думала. Утомлялась она так, что валилась с ног, но, невзирая на все это, ей радостно было являться по вечерам к мужу, по его выражению, с «рапортами» и рассказывать, как она все устроила. Артамон благодарил жену, целовал, хвалил… Будь его воля, он не отпускал бы ее от себя совершенно – он заметно тосковал, если Вера Алексеевна не могла весь вечер просидеть с ним или хоть на минуту отлучалась из комнаты. Даже когда он занимался каким-нибудь скучным делом, то взглядом и словами молил «ангела Вериньку» не уходить. Вера Алексеевна приучилась ласково, но твердо говорить: «Я устала».
Поначалу Артамон обижался и однажды даже буркнул, что достаточно утомляется на службе и желал бы, по крайности, видеть дома радостное лицо. Вера Алексеевна расстроилась и принуждена была уйти к себе. Там она поплакала тихонько… Артамон, видимо, решился выдержать характер и не пошел объясняться, но на следующий день не вытерпел, попросил у жены прощения и долго кружил ее по комнате, держа на руках. Нужно сказать, что скучных дел у мужа оказалось несколько больше, чем Вера Алексеевна ожидала. Частенько Артамон объявлял, что ему нужно «подзаняться», и тогда заваливал весь стол бумагами, над которыми сидел, нахмурившись, один или с товарищем, ежеминутно объявляя, что этак невозможно. В полку ждали ревизии, в эскадронах надлежало спешным образом привести дела в порядок и составить отчет для подачи полковому командиру.
– И скажи на милость, откуда здесь эти семь рублей одиннадцать копеек? – с досадой спрашивал Артамон. – Принесли их черти… Была бы тысяча, так хоть не обидно, а то – тьфу, мелочь!
– Бывает, из-за рубля в штрафные роты ходят, – замечал товарищ.
– «От суммы, предназначенной для винной и мясной порции, осталось восемьсот сорок рублей. Также отпущено три тысячи девятьсот пятнадцать рублей на покупку материалов для сооружения склада, экзерциц-гауза и конюшен для эскадронных лошадей». – Артамон читал монотонно, словно зубрил урок наизусть. – Кстати говоря, мне Шепинг за Ларчика восемьсот рублей дает. Соглашаться или погодить?
– Как хочешь… пожалуй, продавай. Только требуй с него всех денег сразу, а не по четвертям. «Ремонтных денег по семьдесят пять рублей в год». Или не продавай…
При гостях Вере Алексеевне было неловко сидеть; но если муж «занимался» один, она обыкновенно выходила к нему с книгой или с работой, чтобы не скучать, хотя читать при нем было затруднительно. Артамон никакого дела не умел делать тихо – постукивал карандашом, барабанил пальцами по столу, бормотал, шаркал ногами. Если что-то не ладилось, он жаловался, что темно или стол качается, наконец объявлял, что здесь заниматься не может, сгребал бумаги и уходил к себе. Но вскоре Артамону становилось скучно сидеть одному, и история начиналась с начала.
Все было ново, непривычно и немного страшно. Хотя Вере Алексеевне и хотелось выступить в роли хозяйки дома, в то же время она жалела, что нельзя сделать так, чтоб было не нужно званого обеда, гостей, мороженого. Временами она очень хотела сказать и Артамону, и всем остальным, чтоб ее пожалели, оставили в покое. В такие минуты Вера Алексеевна вспоминала, что вокруг незнакомый и нелюбимый город, и ей становилось тоскливо. Однажды, после целого дня хлопот и беготни, она расплакалась так, что чуть не упала в обморок. Муж, едва не свернув стол с бумагами, засуетился вокруг нее, поднося воду, платок, уксус…
– Тебе дурно, Веринька? Ты больна, может быть? Ты только скажи откровенно…
– Оставьте меня, пожалуйста, оставьте, – шепотом просила Вера Алексеевна. – Мне тяжело… скучно!..
– Скучно, ангельчик мой? Давай поедем куда-нибудь, развеемся, ты только прикажи.
– Нет, нет, это я так сказала… ничего не надо, вы не понимаете.
Наконец он выпрямился и обиженно поджал губы.
– Очень мило… Если ты не больна и не скучаешь, отчего же ты всё плачешь?
Она молчала, вытирая слезы и хлюпая носом, как девочка. Муж стремительно заходил по комнате. Вера Алексеевна видела, что ему тоже страшно и тоскливо – и оба не умели сказать этого друг другу.
– Может быть, я обидел тебя?
Вера Алексеевна покачала головой.
– Если ты не хочешь, не надо никаких гостей, никакого обеда, ну его к черту, – предложил Артамон. – Пускай обижаются… Нам их не надо!
– Что ты! – воскликнула Вера Алексеевна, несколько испугавшись его проницательности. – Как можно…
Он замер, беспомощно прислонившись к окну и глазами спрашивая: «Что же мне делать, Веринька? Ты тоскуешь, мне страшно… неужели это так должно быть? Как нам с тобой жить?» – «Не знаю, – искренне отвечала та. – Время идет, а мы все никак не можем привыкнуть».
Чтобы избежать столпотворения и лишних расходов, было решено, что молодежь будет подходить к столу с закусками в гостиной или явится к чаю, а в столовой подадут обед только для самых важных персон, числом около пятнадцати. Егор Францевич, как и ожидали, прислал весьма любезное письмо с извинениями и наилучшими пожеланиями. Вера Алексеевна решила, что это очень деликатно с его стороны. Он не счел бы их обед чересчур скромным, но присутствие его высокопревосходительства, пожалуй, стеснило бы остальных. Зато Катишь явилась и заняла место по левую руку хозяина дома. По другую сторону устроилась полковница Башмакова, которая, слава Богу, избавила Артамона от сомнений, какую из дам вести к столу, и без всяких церемоний подала ему руку сама, как только лакей объявил, что кушанье поставлено.
Полковая молодежь, собравшаяся в гостиной, оказалась очень мила и учтива. Вере Алексеевне поднесли купленный вскладчину сервиз для шоколада и к нему конфектницу из золотистой фольги, в виде античного храма.
– Только не позволяйте мужу таскать сладкое перед обедом, – сострил кто-то.
– Шутки шутками, а я помню, как мы в Баварии… Приятели мои, едва устроившись, поехали добывать вина, а я искать кондитерскую.
Артамон был в совершенном восторге: помимо всего прочего, государь император, встретив ротмистра Муравьева в дворцовом карауле, поздравил его и посулил подарок «на зубок». Артамон познакомил Веру Алексеевну со своим двоюродным братом, капитаном лейб-гвардии Сергеем Муравьевым-Апостолом, и посетовал, что второй брат, Матвей Иванович, в отъезде. Вера Алексеевна подивилась общей муравьевской черте – внимательному тяжеловатому взгляду. У Сергея Ивановича глаза были всезнающие и насмешливые, как на портрете молодого Вольтера. Отчего-то, глядя на него, Вера Алексеевна вспомнила Никиту и тихонько спросила мужа:
– А отчего Никиты Михайловича нету?
Муж как будто слегка смутился.
– Не знаю, Веринька. Должно быть, занят.
Он скрыл от жены, что, желая избежать неприятной встречи, отослал приглашение из всех родственников только Сергею, а в остальном решил положиться на волю Божью: если Никита и Александр Николаевич, из родственных чувств, сами нанесут ему визит, так тому и быть. Они не явились.
– Вы, кажется, ровесники с моим мужем? – спросила Вера Алексеевна у Муравьева-Апостола.
– Как можно, Сергей Иванович на два года младше, – ответил вместо кузена Артамон, таким тоном, словно жена предположила полную несуразицу. – Два года полных, да еще пять дней.
– Как вы, однако, пресерьезно это считаете.
– Нельзя иначе, – ответил Сергей Иванович полушутя. – У Муравьевых старшинством считаются до дня, а родством до десятого колена.
В гостиной, где подали чай, было людно и весело. Помимо армейской молодежи, явились и несколько юношей в штатском, родственников или приятелей. Один из них, семнадцатилетний студент, хилый и восторженный, засыпал хозяина вопросами, к большому удовольствию окружающих.
– Скажите, господин ротмистр, что, по-вашему, в бою самое опасное?
– Это смотря в каком бою, – серьезно ответил Артамон.
– Что значит в каком?.. – Юноша беспокойно переступил с ноги на ногу. – В бою вообще!
– Голубчик мой, не бывает «боя вообще». Если, скажем, два конных строя – это одно, а если пушки против пехоты – совсем другое. Если опять-таки у одних сабли, а у других пики…
– Ах ты господи! – нетерпеливо сказал юноша. – Ну хорошо, предположим, вы в бою съедетесь с противником и начнете рубиться, что тогда самое опасное?
– Когда противник левша, – с уверенностью ответил Артамон, вызвав общий смех.
– Да скажи ты ему наконец, кузен, что в бою самое опасное струсить, не мучай его! – воскликнул Сергей Муравьев. – Он на эту тему целую речь заготовил, да никак подвести не может.
Разговор завертелся вокруг войны – заговорили о случайных встречах. Кто-то вспомнил, как при отступлении сошлись на обочине отец с сыном и расстались навеки. Сергей рассказал, как несколькими часами разминулся с Артамоном в Гейдельберге и как встретил двоюродного брата Николая, шагавшего пешком, с двумя патронными сумами и двумя ружьями за плечом (солдаты их батальона падали от усталости, и офицеры, отдав лошадей под вьюки, все взялись пособить). От воспоминаний о встречах перешли к разговору о подвигах, о том, как люди исключительно робкие на войне проявляли недюжинную храбрость, а храбрецы пасовали перед досадными мелочами мирной жизни. Артамон, убежденный в том, что сегодня ему будет прощена любая дерзость, сострил, глядя на кузена:
– Вот Сергей Иванович, например, теперь с дамами робеет, а какой удалец был в двенадцатом году.
– А ты, гляжу, сейчас орел, а летом в Москве две недели прятался, пока письма от отца ждал, – с улыбкой мгновенно парировал тот.
На мгновение повисла тишина… а потом мужчины грянули хохотом. Присоединились к ним и дамы. И совершенно искренне заливался Артамон, хлопая себя ладонью по коленке.
– Ну, Сережа, тебя голыми руками не возьмешь, – отдышавшись, с восторгом проговорил он.
– Кушайте на здоровье, – ответил тот, как уличный разносчик, нарочито ударяя на «о». Дамы снова засмеялись.
Вообще обед удался, хоть хозяева и устали до крайности. Артамону, привыкшему к шумным многолюдным обществам, было легче, но Вера Алексеевна чрезвычайно утомилась и в душе была рада, что муж никого не задержал разговорами и просьбами посидеть еще. Распорядившись убрать со стола, она опустилась в кресло в гостиной. Ее зазнобило вдруг. Артамон, тихонько подойдя, коснулся плеча жены – Вера Алексеевна решительно отвела его руку.
– Прости, я устала… я хочу побыть одна.
Он, должно быть, почувствовал что-то…
– Ангельчик, ты довольна? Тебя не обидел ли кто-нибудь?
– Нет, Артамон, нет, – начала Вера Алексеевна и поняла, что сдерживаться не в силах. – Зачем, скажи мне, зачем ты над этим смеялся?
– Над чем? Ах, это… Веринька, да ведь в самом деле забавно. Вспомню, так смех берет – бегал по Москве, как заяц, и…
– Тебе смех… – перебила она, не договорила и прикусила губу.
– Веринька, полно! Сережа пошутил, просто пошутил, и только. Нельзя же так серьезно, в самом деле. Ведь, честное слово, ничего страшного не случилось, и я уже не…
Вера Алексеевна поднялась.
– Артамон, пожалуйста, подумай наконец не только о себе!
Она молчала, разглядывая корешки книг в шкафу, муж стоял и хмурился…
– Мне ведь тоже было нелегко, – медленно проговорил он. – Честное благородное слово, я вовсе не развлекался в те две недели, пока ждал ответа от отца.
– Ты хотя бы понимаешь, что я пережила? – спросила Вера Алексеевна, обращаясь к книгам. – Я думала, что была обманута или обманулась, что это все было не всерьез… неужели тебе даже в голову не пришло, как я мучилась?
– Честное благородное слово, – начал Артамон, но вспомнил, что уже это говорил, и замолчал.
Наступило то неловкое, тяжелое молчание, когда оба не знали, что делать. Выйти из комнаты, не говоря более ни слова, значило объявить ссору. Обоим не хотелось ссориться – как делали, по слухам, другие, с театральными жестами, хлопаньем дверьми, с выканьем и непременным запиранием в комнате. Глупо, грубо, оскорбительно… Но они не знали, как говорить друг с другом, и обоим было мучительно. Вера Алексеевна опять вспомнила, что, не считая мужа, в Петербурге она совсем одна. Родители и прежние друзья остались в Москве, а здесь были неприятно-внимательная Канкрина, насмешливый Александр Захарович, строгие офицерские жены – настоящие петербурженки…
Кто-то был должен заговорить первым, и Артамон наконец решился. Он испугался, что Вера Алексеевна сейчас уйдет и он останется в комнате один, с неизбывным чувством вины и досады.
– Я не говорил тебе прежде, ты не знала, – начал он, мысленно выругав себя за бессвязность, – не только в отцовском письме причина… если бы только в нем, я бы примчался, честное слово, я бы провел те две недели подле тебя! Я не решался…
Он подошел ближе, и Вера Алексеевна, увидев его отражение в стекле шкафа, обернулась от испуга.
– Тебе было плохо, мне было плохо… мы не сказали друг другу об этом прежде, прости, я должен был объяснить.
Она бессильно опустилась в кресло; муж сел рядом, на пол, прислонившись головой к ее коленям, и принялся рассказывать:
– Помнишь, Веринька, мы с Никитой к вам приходили обедать, и Никита жаловался на всякие непорядки и прочее? Это он не просто так… Зачем только они сразу не разуверили меня, что нуждаются во мне? Что ж, если им не хотелось… я бы понял, честное слово. Вовсе даже и свинство – знать, что я готов на подвиг, а потом взять и вычеркнуть. Ведь я хотел подвиг совершить, Веринька, чтоб быть достойным… – Он вдруг смутился и договорил сиплым шепотом: –…тебя.
– Погоди, Артамон. Я не все поняла. Откуда тебя вычеркнули и кто? Никита?
– Он, понимаешь, основал общество, чтобы привлекать в него благородных, нравственных людей и сообща бороться со злоупотреблениями. Мы еще в юности мечтали что-нибудь такое… Это все очень хорошо было и героично, ей-богу.
Вера Алексеевна не знала, плакать или смеяться, слушая про общество, устроенное Никитой для благородных нравственных людей, и про то, как вычеркнули оттуда Артамона. Поэтому она только плакала, жалея его и себя и угадывая, как ему было больно и стыдно. А Артамон вдруг на мгновение похолодел: хорошо, что она спросила, какое такое общество, а не какой подвиг. Смог бы он солгать ей тогда?..
– Боже мой… и ты правда думал, что я разлюблю тебя, если ты не совершишь подвига?
– Да.
– Послушай, – тихо сказала Вера Алексеевна, перебирая ему волосы. – Я полюбила тебя не за то, что ты обещался совершить подвиг, или мог бы, или хотел его совершить. И никаким подвигом ты не завоевал бы моего расположения вернее, чем уже сделал это. Я буду любить тебя и не разлюблю, даже если никогда во всю жизнь твою Бог не даст тебе великого дела и ты не свершишь ничего сверх того, что будут требовать от тебя честь и долг. Может быть, когда-нибудь мы посмеемся еще над тем, что было, – проговорила она. – Но не теперь… пожалуйста, только не теперь.
20
Невестка (фр.).
21
Дорогая кузина (фр.).
22
Паштет (фр.).
23
Знатоком (от фр. connaisseur).