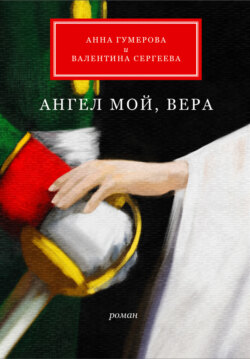Читать книгу Ангел мой, Вера - Анна Гумерова - Страница 7
Часть 1
Глава 3
ОглавлениеЯ вижу, что только мы с тобой отчаянны, – с досадой сказал Артамон. – А остальные отошли, чуть до дела. Разговору прежде много было…
Никита с досадой оттолкнулся от подоконника.
– Чего ты от меня хочешь? Заладил одно и то же…
– Ты сам говорил!
– Я говорил и не отрекаюсь, да неужто ты сам не понимаешь? Что дальше? Смута, безвластие… Ты этого хочешь, что ли?
– Не кричи на меня, Никита. – Артамон с горечью махнул рукой. – Я ведь вижу, как вы на меня смотрите. И Александр отдалился…
Разговоры в Шефском доме по-прежнему были полны огня и страсти, но Артамону уже чего-то недоставало… Ему казалось странным, что можно разговаривать все об одном и том же, не приходя к согласию и не начиная решительных действий. До Артамона дошел слух о насмешке Лунина – тот якобы сказал Никите: «Вы сперва хотите энциклопедию написать, а потом уж революцию сделать». Эти слова все более оправдывали себя в его глазах. Лунин желал либо действовать, либо уж окончательно отступиться, но только не ждать годами сигнала, как начальственного кивка в чужой передней, не кормиться обещаниями и надеждами…
Ожидание расхолаживало, попусту взвинчивало нервы; Артамон полагал, что все должно случиться и сделаться сразу, внезапно… что именно и как именно, было не так важно. Гораздо важнее казалось начать, ударить, атаковать, и поэтому отрывистые и сердитые Никитины увещевания действовали на него, как ведро холодной воды. После таких разговоров он обыкновенно чувствовал себя ошеломленным и униженным, словно Никите пришлось разъяснять ему азбучные истины. Никогда и никакие герои древности, никакие рыцари, никакие Мазаньелло не окружали свое дело таким количеством отговорок и проволочек, как Никита и Александр Николаевич.
А главное, круг, который некогда казался единым и нераздельным, начал, по пристальном изучении, распадаться на двойки, тройки, четверки… Одни требовали реформ, другие духовного обновления, третьи народного образования – немудрено было растеряться! То, что между друзьями может не быть единодушия по важнейшим вопросам или что мнение бесспорных глав общества, самых умных, самых бесстрашных, то есть настоящих героев, может быть оспорено, смущало Артамона… как смущало и то, что он, со своей горячностью и желанием немедленно действовать, остался в меньшинстве.
– Вам, Никита, как будто и вправду интереснее говорить, чем делать, – заметил он. – Это все твое масонство… да! Одна философия…
– А я тебя еще раз убедительно прошу до масонов не касаться, если ты дорожишь моей дружбой.
– Может быть, мне тогда на собраниях и вовсе помалкивать? – язвительно спросил Артамон.
– Пожалуй, так действительно будет лучше, – спокойно ответил Никита. – По крайней мере, произведешь наконец впечатление серьезного человека.
– А! Так все мои слова тебе недостаточно серьезны и в мои намерения ты не веришь?
Никита нарочитым жестом приложил ладони к вискам.
– Только не начинай, ради Бога, с начала, я тебя прошу.
– Было бы что начинать… Твои любезные приятели, Катенин с Гречем, надо мной мало не в глаза смеются, а я терплю. Ты мне тогда про королевство Датское напомнил, а я тебе вот что скажу:
Et les entreprises les plus importantes,
Par ce respect, tournent leur courant de travers,
Et perdent leur nom…[10]
Артамон оборвался на полуслове.
– По крайней мере, скажи на милость, ты хоть согласен по-прежнему, что тиран преступен и должен быть… казнен?
Никита молча кивнул. Знакомые слова, столько раз повторяемые, начинали раздражать. Так раздражает тихого и склонного к созерцательности человека беспокойный сосед по комнате, который лезет с расспросами, кашляет, стучит сапогами, курит без спросу – пусть не со зла, но мешает, мешает бесконечно. Артамон был упрям, временами до назойливости, если желал добиться своего. Трудно было сказать, что Никита не доверял Артамону, но от беспрестанных разговоров об одном и том же ему становилось скучно. «Вот что получается из человека, который растет с простыми и добрыми, но бестолковыми родителями, без какого-либо духовного и умственного влияния, – думал он. – Шуму много, а большого ума не видно…»
Разговор не клеился и был близок к вспышке. Того единственного ответа, которого так ждал кузен, Никита не дал и дать не мог, и обоим было досадно. Не сойдясь темпераментами, они в последнее время как будто только и искали повода разойтись без ссоры. Артамон это чувствовал и считал себя виноватым. Чего-то в нем, по его мнению, недоставало, а он никак не мог уловить, чего именно… Мысль о том, что он уступает родичам во многом и никак за ними не угонится, не давала ему покоя.
Он предпринял еще одну попытку.
– Никита, ты знаешь, меня скоро командируют в Тамбов. Чтоб не зря ехать, дай мне, по крайности, право набирать единомышленников в Пятом корпусе. Хоть записку напиши, что ли…
Никита на мгновение задумался…
– А ты прав, – вдруг сказал он. – Я даже более того сделаю – дам тебе целую книжку и напишу в ней цель общества, и те, кого ты примешь, пускай в ней расписываются. Я тебя только об одном убедительно прошу – не распространяйся, ради Бога, с кем попало об истреблении, кинжале и прочем. Это неосторожно, в конце концов, всегда можно нарваться на донос. Обещаешь?
– Обещаю, ты только напиши.
Никита, казалось, сам вдруг воодушевился этой идеей – он сходил к себе на квартиру и принес небольшую записную книжку в зеленом переплете. Вернулся он не один, а с Катениным, который, как оказалось, там его поджидал, но Артамон обрадовался и Катенину, немедля простив ему недавние косые взгляды и усмешки. Катенин, похоже, заодно с Александром Николаевичем усвоил взгляд на Артамона как на балагура и забавника, которого не следует принимать всерьез. Раздражало это безмерно, до белой ярости… Из уважения к Никите и Александру Николаевичу Артамон не решался гласно потребовать объяснений – да еще Бог весть что вышло бы из них. С бойкими и острыми на язык гостями полковничьей квартиры Артамону было не тягаться. Быть шутом при Никите он не желал – и теперь всё отдал бы, лишь бы тот вновь заговорил с ним горячо и искренно, как осенью. И без того нелегко было смириться с тем, что кузен, годом младше его, смотрел и рассуждал как старший.
Все трое стеснились у стола, и Никита принялся писать.
– «…соединиться в Общество для того, чтоб связать нравственно отличных людей между собою и сим способом всем вкупе стремиться к пользе Отечества», – прочел он.
– Нравственно отличных… это хорошо, да!
– Ты не забудешь ли, что обещал?
– Как можно, Никита.
– Тогда слушай дальше: «Сим уполномочен штабс-капитан Артамон Муравьев набирать сочленов в 5-м Резервном Кавалерийском Корпусе». Ставлю подпись. Подпишите и вы, Катенин.
Теперь, когда у него появилась цель, Артамон вновь развеселился. Он принялся шутить с Катениным, даже расшевелил Никиту, а после их ухода стал представлять, какие разговоры будет вести в Тамбове с «нравственно отличными людьми» – непременно храбрыми и решительными, – и как пополнится ими общество, и с каким уважением взглянут на него Никита и Александр Николаевич. Запрет говорить об «истреблении», впрочем, несколько обескураживал его, но Артамон тут же признал, что Никита совершенно прав. Бывало, что из-за неосторожности заговоры раскрывались в последний момент и конфиденты шли на плаху.
От этой мысли нетрудно было перейти и к самому «истреблению»… Артамон представлял себе эту сцену неоднократно, и всякий раз в подробностях. После ухода Никиты и Катенина он даже достал пистолет и принялся целиться в зеркало, прикидывая расстояние. «Рука не дрожит… это хорошо. Нужно упражняться больше, чтоб и с тридцати шагов не промазать». Лицо, глянувшее на него из зеркала, было бледным и интересным, только глаза сделались круглыми, как у кота.
Как ни крути, выходило, что дело несложное, хоть во дворце, хоть на бале, хоть во время прогулки или на параде. Обставить его более или менее драматически – маски, кинжалы, плащи и прочее – зависело от обстоятельств и от того, следовало ли исполнителю покушения пасть на месте жертвой или бежать, спасая свою жизнь. Нужно сказать, оба исхода Артамон воображал с удовольствием и с трепетом, а в тех случаях, когда трепет переставал быть приятным, напоминал себе, что он недаром тезка Артемию Волынскому. Смущало его лишь то, что, в случае жертвы, придется, во-первых, навеки проститься с Верой Алексеевной, а во-вторых, вновь причинить ей боль утраты. Но и тут, поразмыслив, Артамон успокоил себя. Вере Алексеевне наверняка приятно будет помнить его как героя… а если жертвы не понадобится, тем более… а если даже и понадобится, может быть, до тех пор они успеют составить счастье друг друга, и, когда пробьет роковой час, она сама благословит его…
У него голова шла кругом.
«Вот теперь можно и предложение делать, – блаженно подумал он. – Мне, право, есть чем гордиться. И потом, Егор Францевич говорит, мне вот-вот выйдет в ротмистры. По крайней мере, не с пустыми руками, для успокоения совести. Конечно, окружить Веру Алексеевну роскошью я не смогу, но неужели она откажет мне из-за того, что я небогат? Она не тщеславна, кажется, и не привыкла к блеску… Пускай нас ждет бедная жизнь, но она будет счастливой!»
Он неосторожно взмахнул рукой, словно споря с кем-то незримым, и случайно спустил взведенный курок. Зеркало разлетелось вдребезги: пистолет оказался заряжен. В комнате повисло облако дыма. Артамон выругался от неожиданности, обернулся и увидел на пороге брата Александра – тот, обомлев, смотрел на него с раскрытым ртом.
– Ты что?..
– Господа, имейте совесть, – сказали из соседнего «нумера». – Кто там пули в стену садит?
– Я нечаянно, Митя.
Впрочем, Александр Захарович, вернувшийся с вечера, был настроен благодушно и на чудачества брата не сердился.
– Ну, слава Богу, хоть не убился. А ты зря в собрание не поехал, было премило. – Александр Захарович даже о приятном рассказывал мерно и не повышая голоса, словно читал нотацию. – О тебе справлялись, между прочим… tu avais du succès autrefois[11]! Ты вообще становишься каким-то анахоретом, ездишь на вечера черт знает куда, где никого не бывает… ну что ты улыбаешься?
– Так, Саша… ты рассказывай, рассказывай. Я очень рад за тебя.
Брат подозрительно взглянул на него.
– Того и гляди, тебя совсем забудут в свете, нехорошо… послушай, Артамон, я так не могу, ей-богу. Или прекрати скалиться, или выкладывай, что у тебя на уме. Не то я сейчас лягу спать, и попробуй только меня разбудить.
– Нет, Саша, честное слово, ничего такого… так что же в собрании?
Александр Захарович, все так же мерно, принялся рассказывать. Артамон слушал, улыбался знакомым именам… Брат казался ему совсем юным, а себя уж он считал положительным семейным человеком, обремененным совсем иными делами и заботами, нежели улыбки светских барышень. Роль степенного отца семейства Артамон примерял на себя так же легко, как и роль героя. Улыбаясь и кивая брату, греясь в лучах чужой радости, он думал о своем, но тут напомнила о себе и собственная молодость, и степенному отцу семейства стало решительно невозможно усидеть на месте. Захотелось сбежать по лестнице, взбудоражить спящие улицы, махнуть галопом далеко за город или хотя бы распахнуть окно и крикнуть что-нибудь на весь двор…
Теперь, после разговора с Никитой, после легкомысленной и счастливой болтовни Александра Захаровича, хранить тайну казалось невозможно, да и незачем. Артамон подумал, что наконец всё для себя решил. Определенность, которой он ожидал несколько месяцев, наконец настала, и нужно было немедленно что-то сделать, не то – он чувствовал – он принялся бы хохотать как сумасшедший.
Когда Александр Захарович начал рассказывать про кем-то изобретенные новые фигуры в мазурке, Артамон не выдержал – он обхватил брата и заскакал с ним по комнате.
В стену постучали.
– Вы с ума спрыгнули, господа? Утра шестой час.
– Мы, Митя, подумали, что уж не стоит и ложиться.
– Вы-то подумали, а нам каково?
С другой стороны отозвались:
– Мы уж решили, что Сашка не собаку, а коня в нумер привел.
– Астраханского верблюда.
– Слона.
Из соседнего нумера пришли поручики Злотницкий и Волжин. Явился и Сергей Горяинов.
– Если не даете спать, дайте тогда выпить.
– За шкапом корзина стояла – глянь, нет ли бутылки.
– Кстати о конях, эскадронный обещал загонять на дистанции. Отчего у конногвардейцев верста три минуты, а у нас три с четвертью?
– Черт его знает.
– Я тебе скажу почему. У Петюшки Арапова гунтер, а у меня ганноверский тяжеловес. Эскадрон равняется по тихоходам. Вот тебе и три с четвертью. Зато на пяти верстах они за нами не угоняются.
– Vivat les chevaliers-gardes[12]!
– Послушайте, господа! – вдруг выпалил Артамон. – Я хочу одну вещь сказать… господа, я женюсь.
В комнате воцарилась мертвая тишина.
– Шутишь? – наконец спросил Волжин.
– Да что вы все как сговорились, за шутку держите! – обиделся Артамон. – Натурально, женюсь, на его вот сестре, на Вере Алексеевне.
– И молчал до сих пор?! Ты-то, Сережа, что ж?
– Будешь тут молчать… он меня мало не к барьеру грозил поставить, если разболтаю.
– Ай, Артамоша, молодец! – гаркнул Злотницкий. – Хвалю! Вот это по-нашему – влюбился, так нечего медлить!
– Друг! Артамон! Прощай, свобода!
– Я медлить не люблю-ю-ю! – сатанинским басом пропел Волжин. – Сейчас мы денщика того… за шампанским.
– Господа, шестой час утра, какое шампанское? – пытался слабо протестовать Александр Захарович. – Хороши мы будем на плацу, нечего сказать.
– Ничего, Саша, мы в меру. Могий вместити… Артамон, а мальчишник? Непременно мальчишник! Господа, качать капитана!
– Идите к черту! Уроните или об потолок стукнете…
Александр Захарович оттянул брата в сторону.
– Послушай, ты говорил с отцом?
– Покуда нет, да вот поеду в Тамбов…
– Frateculus meus[13], я тебе решительно удивляюсь… или, пожалуй, не удивляюсь, вечно ты все делаешь навыворот. И уж сразу «женюсь». Ее родителям, я полагаю, ты тоже еще ни слова не сказал? Ну а как откажут?
– Кому, мне? – удивленно спросил Артамон.
Александр Захарович только развел руками, а потом не удержался и весело хлопнул брата по плечу.
– Что папаша-то скажет, ты подумал? Черт… какой-то ты этакий – невозможно тебя не любить.
– Твоими бы устами…
Рыцари, подвиги, дамы – все это так и кружилось в голове Артамона, и на следующий день ему пришла в голову блистательная идея. После учений он подошел к Злотницкому и, стараясь говорить как можно беззаботнее, спросил:
– А что, Юзе, можешь мне наколоть буквы, как у тебя?
Злотницкий носил на руке наколотые порохом инициалы M.D., уверяя, что сделал татуировку в Париже, в честь красавицы актрисы, подарившей его своей благосклонностью.
– Э-э, да ты, капитан, гляжу, бесишься всерьез. Что хочешь?
– Вот так. – Артамон пальцем показал на кисти. – Латинскими буквами – «Вера».
– Уж сказал бы сразу – «верую», – пошутил Злотницкий. – Знаешь, чего тебе недостает? Рыцарского щита с гербом твоей прекрасной дамы.
Вечером к Злотницкому набилась компания – выпить еще раз за жениха, позубоскалить… Артамон выслушивал товарищескую болтовню благосклонно. Он не сомневался, что слухи уже дошли до Никиты, но не нашел кузена в явившейся к нему с поздравлениями толпе. Впрочем, и без Никиты доброжелателей хватало. Принесли шампанское, гитару, и пошел кутеж – видимо, товарищи решили устраивать мальчишник при каждой возможности. Злотницкий, еще сохранявший относительную трезвость, велел поставить на стол побольше свечей и принялся за дело: сначала накалывал иголкой контур каждой буквы, от большого пальца к указательному, потом острием прорывал кожу между точками и затирал ранки порохом.
– Это, верно, чтобы в ином месте не забыть, – сострил Волжин.
Гуляки примолкли – острота вышла чересчур соленой даже для подвыпившей компании.
– Вашу шутку, – не поворачиваясь, медленно и внятно проговорил Артамон, – я считаю в высшей степени неуместной. А вы сами как думаете?
Поручик, словно пригвожденный к месту этим вопросом, беспомощно покрутил головой. Дело, которое он, очевидно, рассчитывал свести к пикантной болтовне в мужском кругу, вдруг начало обретать для него нешуточный оборот. Ссору развел Александр Захарович. Он обнял брата за плечи, быстро сказал ему на ухо: «Полно, не сердись, видишь, он в стельку пьян», а поручику посоветовал:
– Вышли бы вы отсюда проветриться… что вам, места мало?
Поручик, которого столь недвусмысленно выставляли за дверь, точно маленького, покраснел, задумался, не обидеться ли, но лезть на ссору с Артамоном и доброй половиной офицеров не решился.
– А в английской армии, – задумчиво произнес кто-то, – я слышал, татуируют дезертиров и буянов. Накладывают такую штуку с гвоздями и бац молотком, потом…
Артамон понимал, что товарищи его «проверяют», нарочно рассказывают всякую чушь, а потому, прикусив губу, не сводил взгляда с Злотницкого и старался не вздрагивать, чтобы не испортить рисунка. Закончив, Злотницкий стер платком, смоченным водкой, с руки «пациента» кровь, перевязал кисть полосой чистого полотна и подмигнул:
– На вечную память.
С повязкой на руке Артамон проходил неделю; впрочем, и Вера Алексеевна с родными на несколько дней уехала погостить к друзьям на дачу. Чтобы видеться с ней хотя бы урывками, Артамон был готов совершенно жертвовать сном – отправляться на дачу вечером и возвращаться в казармы поутру к началу учений. Но кавалергарды ждали последнего смотра перед отбытием в Петербург, и ротный командир, что называется, натягивал удила. Штрафы сыпались на изрядно развинтившихся гвардейцев, как из мешка. Рисковать арестом за опоздание Артамон не хотел. Вдруг, пока он будет сидеть на гауптвахте, Веру Алексеевну увезут уже не на дачу, а в деревню? Прощай тогда возможность объясниться в ближайшее время… Оставалось ждать – и терпеть.
Дождавшись возвращения Горяиновых в город, он полетел к ним… и – о удача! – застал Веру Алексеевну, против обыкновения, одну в гостиной. Судьба решительно ему благоприятствовала.
Он сел… Любинька и Сашенька могли войти в любую минуту – в конце концов, их могли нарочно прислать родители, чтобы, самим не вмешиваясь в беседу молодых людей, не оставлять дочь наедине с гостем. Они поговорили о том о сем, о театре, о недавно прочитанных романах. Вера Алексеевна потянулась за книгой, желая показать понравившееся место. Артамон положил руку на подлокотник и словно невзначай слегка поддернул обшлаг, чтобы видны были синеватые буквы – Vera. Вера Алексеевна посмотрела на них, с тревогой перевела взгляд на собеседника…
– Что это?
– А вы не до-га-ды-ва-етесь?.. Это я для вас.
– Зачем вы?..
– А вы как думаете? Чтобы на всю жизнь, Вера Алексеевна. Я хочу ваше имя всегда носить…
– Зачем – на всю жизнь? – негромко спросила она и добавила: – Да ведь это, должно быть, больно…
– И вовсе нет – если об вас думать, ничего не больно. Я всегда вас буду любить… всегда. Как ваше имя буду носить на руке, так хотел бы и вас носить на руках всю жизнь, чтоб вы ножкой не запнулись.
– Надоест, Артамон Захарович, – поддразнила она.
– Что вы… я сейчас совсем серьезно говорю. Я люблю вас. Неужели вы не верите?
Он опустился на колено перед ней, но вышло неловко – он был высок, и их глаза пришлись почти вровень. Тогда Артамон порывисто поднялся, обхватил удивленную Веру Алексеевну за талию, поставил ногами на кресло и с тревожной улыбкой заглянул в лицо снизу вверх, как будто держал в руках что-то особенно дорогое и хрупкое… Вера Алексеевна часто потом вспоминала, что именно так он всегда и смотрел на нее, снизу вверх, словно она стояла на пьедестале.
– Вы согласны быть моей женой? – спросил Артамон.
– Согласна, согласна… – Она вдруг рассмеялась от неожиданности и от счастья. – Пожалуйста, помогите сойти, не дай Бог, кто-нибудь войдет.
Он, враз смутившись, протянул ей руку, и Вера Алексеевна спрыгнула. Не выпуская ее руки, Артамон попросил:
– Повторите, прошу вас… что вы сказали? Только уж не смейтесь.
– Я согласна, – смело произнесла Вера Алексеевна.
10
И начинанья, взнесшиеся мощно,
Сворачивая в сторону свой ход,
Теряют имя… (фр.).
(Французский перевод «Гамлета» был сделан Вольтером.)
11
Ты прежде имел успех (фр.).
12
Да здравствуют кавалергарды! (фр)
13
Братец мой (лат.).