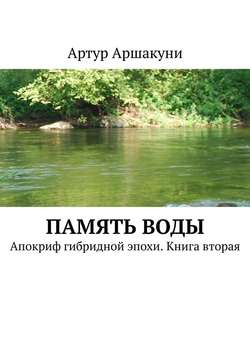Читать книгу Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга вторая - Артур Аршакуни - Страница 4
Часть вторая
Глава третья Дерево
ОглавлениеСтепенный, преисполненный чувства собственного достоинства ворон, сидя на горизонтально протянутой ветви исполинской сосны, водит выпуклым блестящим глазом в одну сторону, потом, склонив голову, в другую и потом, переступив цепкими лапами вбок, важно пускается в полет, черным крестом перечеркнув головокружительную зеленую бездну, напоенную разогретой солнцем хвоей. Он летит среди расступающихся перед ним деревьев и кустов, спокойно, молча, почти не шевеля крыльями, вбирая самыми кончиками растопыренных маховых перьев вибрации окружающего мира и являясь такой же естественной и неотъемлемой его частью.
Постепенно лес редеет, сменяясь кустарником, сбегающим с горы в долину, где раскинуты возделанные поля и работающие на них люди. Ворон продолжает полет; поля эти, как и лес, знакомы ему с детства, а люди – люди не способны обидеть его.
За полями тусклой цепочкой убегает вдаль речка, с золотистыми блестками песчаных берегов и прихотливой оправой камышовых зарослей. Ворон ловит восходящий поток от нагретого солнцем берега и взмывает крутой дугой, летя на боку, левым крылом к воде, а правым поглаживая солнечный диск. И на вершине дуги, когда ворон должен был величественно перевалиться с крыла на крыло и начать плавный планирующий спуск на другой берег, его полет внезапно нарушается. Вместо этого он делает несколько сильных взмахов и разворачивается обратно, к уходящему в синеву гор хвойному лесу.
Что-то изменилось в окружающем мире по сравнению с привычной ему картиной. Он еще не знает, в чем дело, но чувствует новые, чужеродные, а потому враждебные вибрации.
И потом, спустя много времени после того, как улетел ворон, работающие в поле люди поднимают головы, осматриваются, переговариваются друг с другом, а затем прекращают работу, собираясь вместе и вглядываясь из-под руки на тот берег реки.
Оттуда наползает грязноватый клубящийся дым и все явственней доносится запах гари.
Запах беды.
* * *
– Пожар?
– Да.
– Что горит? Где?
– Сдается мне, что в той стороне, где амбары.
– Ой!
– О, Владыка обеих Земель, смилуйся над нами, смертными!
– Чего мы медлим? – горячится красивый, но чрезмерной, не мужской, красотой, юноша. – Пойдем, надо помочь справиться с пожаром.
– Ты невнимателен, Айсор, – качает головой старший, не старый, еще помнящий перевал своей жизни мужчина с загорелым лицом. – Взгляни на дым, – он не устремляется к небу, а стелется по земле. Значит, он тяжел. Он тяжел, ибо напоен водой. Значит, там есть люди, которые погасили огонь, и мы там уже ничем не поможем. Долг наш – удвоить усилия здесь, в поле, чтобы возместить потери.
– Но что там могло случиться, о Пап?
Старший, которого назвали Папом, медлит.
– Не знаю, но…
– Но?
Пап качает головой.
– Не хочу осквернять душу грехом навета.
Какое-то время все напряженно трудятся. Потом юноша замечает идущего к ним через поле человека.
– Смотрите, смотрите!
Усталые спины распрямляются.
– Это досточтимый Шахеб.
Да, это он. Невысокий, не выше подростка, плешивый, с ятаганом носа, смешной, подпрыгивающей походкой и прекрасными всепонимающими глазами мудреца.
Подойдя к работающим в поле, он кланяется им до земли. Люди приветствуют его в ответ.
– Мы заметили дым пожарища, Наставник, – говорит Пап на правах старшего. – Это…
Шахеб смотрит на него с грустной улыбкой, кивает и бросает одно короткое, как плевок, слово:
– Мардус.
– О, Уннефер! – снова восклицает женщина.
– Так я и думал, – шепчет Пап.
– Да, – продолжает Шахеб. – Горели амбары с зерном. Огонь заметили вовремя, поэтому ущерб хоть и велик, но не смертелен.
– Сколько же лет он не дает нам покоя! – Пап сжимает кулаки. – Что ему надо?
Шахеб все с той же грустной улыбкой кладет руку ему на плечо.
– Разве ты не знаешь, друг мой Пап? Власти – чего же еще.
– О, бессмертный Озирис, неужели ничего нельзя с ним сделать? – горячится юноша. – Сколько в его шайке людей – двадцать? Тридцать? Пятьдесят? А сколько нас, жителей Шамбалы? Сколько можно выставить отрядов против него и рассеять, как пыль по ветру, в первом же бою!
Люди вокруг переглядываются.
– Айсор молод, – говорит Пап Шахебу.
– Молодость – не помеха, а подспорье пытливому уму, если он все-таки есть, – возражает Шахеб и продолжает, обращаясь к Айсору: – Шамбала была, остается и будет оставаться противницей всякого насилия.
– Почему, если в мире так много жестокости и зла?
– Именно потому мы и должны сохранять негаснущим факел разума во мраке невежества, чтобы не потерять дорогу к Истине. Напряги свой ум, чтобы понять, что я скажу тебе в двух словах: сила – удел слабых.
– Значит, удел сильных – бессилие?
– Нет, – качает головой Шахеб, – разум.
– Что может сделать разум против ножа, подкрадывающегося к незащищенной спине? Стрелы, направленной в грудь? Сабли, летящей к беззащитной шее?
– Постарайся, о горячий Айсор, понять меня, ибо я опять отвечу тебе коротко: верить. Надеяться. Терпеть.
– И это все? – на лице Айсора написано разочарование. – А в это время Мардус со своей шайкой перережет всех нас, как цыплят.
– Айсор! – Пап на правах старшего строго смотрит на юношу.
Шахеб успокаивающе кивает Папу.
– Значит, таковы мы и таков он, и таковы наши Сеп17, – говорит он и улыбается. – Или, как сказал бы премудрый Азнавак, наши Кармы18.
Рядом худой, аскетичного вида мужчина горестно кивает головой.
– Мало нам его злодеяний, еще и природа взбунтовалась… Слышали весть, что принесли пастухи? После недавнего землетрясения треснула плотина, в трещины начала просачиваться вода, а если она прорвется, – воды горного озера хлынут в долину.
Наступает молчание.
– Что же нам делать? – спрашивает Айсор.
– Работать, – Пап берется за мотыгу.
– Да, но…
– Учитель знает, – говорит Шахеб.
– Знает? – женщина светлеет лицом.
– Ему уже сказали.
Айсор медлит. Лицо его выражает напряженное раздумье.
– Эту плотину возводили три поколения жителей Шамбалы, – говорит он, переводя растерянные взгляд с одного на другого. – Я знаю, что Учитель велик, но может ли он справиться с водами целого озера, если плотину прорвет?
– Может, – убежденно говорит женщина.
– Как?
– Он – Учитель, – женщина склоняется над мотыгой.
– Мне нравится твоя пытливость, юный Айсор, – улыбается Шахеб. – Я возьму тебя с собой к плотине. Туда прибудет и Учитель, и ты увидишь сам, что он умеет.
– Досточтимый! – Айсор прижимает руки к груди и кланяется.
Шахеб досадливо поднимает руку.
– Перестань, прошу тебя, перестань. А потом, хотя ты еще и не прошел первой ступени, я возьму тебя в помощники. Ты и Оэ вдвоем будете помогать мне готовить гробницу к обряду посвящения Чжу Дэ.
Эти слова снова собирают людей вокруг Шахеба.
– Чжу Дэ!
– Вы слышали?
– Калки Аватар, да будет по нему окоем19! – улыбается женщина. – Как он, о досточтимый?
Шахеб довольно потирает запотевшую лысину. Видно, что он пытается скрыть свое волнение за показным равнодушием.
– Я доволен им, – с усилием говорит он и, не сдержавшись, продолжает: – Да, не случайно его выделяет Учитель. Я за всю свою жизнь не встречал более способного послушника. За один год он прошел все ступени, на что иным нужны годы и годы упорного труда! Я сказал – послушник? – он оглядывает людей. – Нет, он уже перерос меня… И после посвящения он станет таким же Наставником, равным остальным.
– Хвала тебе, Солнцеликий! – благоговейно шепчет женщина, и остальные вместе с ней поднимают к солнечному диску руки.
Затем Шахеб тепло прощается с ними и уходит в сопровождении Айсора.
Он ведет юношу тропой, соперничающей в прихотливости с речкой, за поля и дальше, к холмам, поросшим орешником.
– Скажи, досточтимый…
– Слушаю тебя внимательно.
– Что надо делать в гробнице?
– Смотри, какая птица. Сколько в ней величия!
– Ты не ответил.
– Эх, Айсор, напряги хоть немного свой разум, и ты поймешь, что я тебе ответил… Придет срок – узнаешь. Или ты уже оробел?
– Нет-нет! А эта Оэ…
– Горяч-то ты горяч, юный Айсор, а вот задать вопрос тебе жара не хватает, – смеется Шахеб.
– Она вправду глухонемая?
– Вправду, вправду. А что – это тебе может как-то помешать?
– Нет, – смущается Айсор.
– А девушка она красивая, верно?
– Не знаю, я ее вижу нечасто и все издалека…
– Э, милый мой, – хитро прищуривается Шахеб, – истинную красоту можно заметить сразу и на любом расстоянии! Но ничего, познакомишься, может, и разглядишь вблизи ее красоту. А что глухонемая – ничего, зато тайн наших не выдаст.
– Каких тайн?
– Смотри, Айсор, кто-то идет вон там, за орешником. У тебя глаза молодые, ну-ка присмотрись.
– Это Ка… Кал… Калки Аватар, – робея и запинаясь, говорит Айсор.
– Что ты говоришь?
Шахеб взволнованно идет навстречу маленькой фигуре в белом, мелькающей среди кустов и деревьев. Да, это он.
Чжу Дэ идет неторопливо, бережно придерживая отводимые руками гибкие ветви. Теперь, когда он вблизи, его можно рассмотреть. Он сильно изменился. Волосы, прежде светлые, теперь потемнели и приобрели оттенок спелой пшеницы. Лицо утратило прежнюю подвижность и выразительность. Теперь на нем отпечаток усталости и отрешенности, как у человека, долгое время пытающегося вспомнить нечто важное. Легкий рыжеватый пушок на щеках придает ему немного суровый вид. Он вырос – на две головы выше Шахеба – но остался таким же худым и поджарым. Не изменились только глаза – такие же синие и бездонные, они остались глазами ребенка, просто и доверчиво вбирающими окружающий мир.
Но Шахеб замечает еще и грязную накидку и испачканные сажей изящные руки Чжу Дэ с тонкими длинными пальцами. Вдобавок одно пятно еще и на его щеке.
– Чжу Дэ! – Шахеб в недоумении. – Что случилось?
Чжу Дэ переводит взгляд с Шахеба на Айсора, своего ровесника, слегка наклоняет голову, приветствуя его, потом снова глядит на Наставника и молчит.
Разве он не знает, что случилось?
– Почему ты здесь?
– Потому что я должен быть здесь.
– Ты же должен готовиться к последнему испытанию перед посвящением, а не осквернять себя прахом земным.
– Обращение к праху делает душу еще чище, – тихо говорит Чжу Дэ.
– Сможешь ли ты пройти посвящение?
Чжу Дэ молчит.
– Почему ты молчишь?
Чжу Дэ говорит невпопад, словно сам с собой:
– Что важнее – посвящение или подготовка к нему? Посвящение или святость?
Шахеб оглядывается на стоящего рядом Айсора.
– Послушай, Чжу Дэ, – говорит он терпеливо, – предписания Тота-Гермеса обязывают послушника…
– Мудрейший Шахеб, – тихо говорит Чжу Дэ, – я пройду посвящение.
– Чжу Дэ, – Шахеб начинает сердиться, – обряд посвящения предполагает длительную подготовку, долгие дни, проведенные в молитвах и укрощении плоти, настройку души на принятие откровения…
Глаза Чжу Дэ на миг широко распахиваются, обжигая Шахеба холодным синим огнем.
– Зачем усложнять, о Шахеб? – устало говорит он. – Жизнь, – Чжу Дэ обводит рукой вокруг и показывает обожженные ладони, – вот это – лучшая подготовка к посвящению.
– Зачем усложнять? – повторяет Шахеб. – Не нам судить, сложно это или нет. А во-вторых, сложно это или нет, но это – именно так, и мы лишь должны…
– Плохо, – тихо говорит Чжу Дэ.
– Айсор, – говорит Шахеб жадно внимающему юноше, – иди вперед по тропе, я тебя догоню.
И потом, дождавшись, пока затихнут шаги ушедшего вперед Айсора, встревоженно спрашивает Чжу Дэ:
– Почему? Ведь это правильно.
– Правильно это или нет, – улыбается Чжу Дэ, – но это сложно и потому – плохо.
– Не смейся, Чжу Дэ, это серьезные вопросы! – горячится Шахеб. – Ты ищешь простоту там, где ее не должно быть.
– Я не ищу ее! – Чжу Дэ вскидывает голову, продолжая доверчиво улыбаться. – Я не ищу ее, ибо она – везде. Мир прост, ибо он самодостаточен. Мы же его усложняем сами, в силу своей ущербности.
Шахеб долго смотрит на Чжу Дэ.
– Сын мой…
– Я не твой сын! – гневно говорит Чжу Дэ.
Снова наступает молчание. Шахеб потрясен, потому что он никогда не ожидал от своего любимца такой выходки. Судя по смущению Чжу Дэ, он от себя тоже не ждал этого.
– Хорошо, – наконец произносит Шахеб. – Ты молод и горяч, и в силу этого годишься мне в сыновья.
– Нет, – Чжу Дэ упрямо качает головой, сжав зубы.
– Но почему? Что с тобой, Чжу Дэ?
– Ничего, – Чжу Дэ медлит и через силу добавляет: – Не говори так.
– Как же мне с тобой говорить?
– Не знаю, – еле слышно говорит Чжу Дэ и вновь, после паузы, добавляет: – Прости меня.
– Ладно, – Шахеб смеется облегченно. – Согласись хотя бы с тем, что кто-то все-таки есть твой отец.
Но смех застревает в его груди, потому что в следующее мгновение Чжу Дэ бросается к нему, хватает за плечи и, плача и смеясь, кричит ему в лицо искаженным в крике ртом:
– Кто мой отец?!
– Чжу Дэ! – только и успевает потрясенно прошептать Шахеб.
Чжу Дэ, всхлипнув, отпускает Шахеба и отворачивается.
– Прости меня, – говорит он чужим, ломающимся голосом и уходит.
Шахеб с грустью смотрит вслед ему и тихо произносит:
– Ну, если не знаешь ты, о Чжу Дэ, отца своего на этой земле, ищи тогда его на небесах…
Чжу Дэ останавливается на полпути и оборачивается к Шахебу.
– Это ты сказал хорошо, – говорит он.
И затем скрывается за поворотом тропы.
* * *
Ворон, примостившийся на протянутой горизонтально, как величественная длань владыки, ветви исполинской сосны, головокружительно высоко от земли, сунув голову под эбеновое крыло, чутко вслушивается в звуки леса. И хотя он давно замер в этой неподвижной позе, так что, сколько ни всматривайся, его не заметишь, – ворон не спокоен, нет, не спокоен.
Запах гари с дальнего берега реки тревожит его, бередит родовую память, в которой этот запах прочно связан со сполохами пожарищ, гортанными воинственными криками, блеяньем, ржаньем, мечущимися в дыму людьми, криками женщин, плачем детей и особенным, тяжелым, подавляющим слух молчанием мертвецов.
Сейчас ничего этого нет, и тишину нарушают лишь хохот безумной сойки в глубине леса, деловитое постукивание дятла, недовольное гудение шмеля у подножия сосны и приглушенная расстоянием болтовня сороки.
Ворон ждет.
Потом он внезапно оживает и с непонятным остервенением начинает долбить клювом муравьев, оказавшихся рядом с ним на ветви, словно в наказание за то, что столь малые создания оказались на столь не подобающей им великой высоте, после чего вновь замирает в той же позе, сунув голову под крыло и обратившись в изваяние.
Ворон ждет.
Болтливая сорока на сей раз не обманула – далеко, с околесья, доносится тонкий человеческий голос, напевающий бесхитростную песню.
Когда журавлиха… —
выводит голос, —
Когда журавлиха, завидев черную тучу,
но ворон не вникает в смысл, —
Расправляет ослепительно-белые крылья
И в страхе…
он просто знает, что еле слышный голос этот принадлежит славной и доброй девушке, не способной никого обидеть, и просто слушает песню – песню, как часть этого мира.
И в страхе, стремясь укрыться от ливня, летит к скалам,
Аджакарани-река бывает тогда так прекрасна!
Когда журавлиха, завидев черную тучу, —
выводит голос, стихая напрочь вдали, так что ощутить его теперь может лишь могучая длань сосны, на которой сидит ворон.
Ворон ждет.
* * *
Чжу Дэ, пробежав по тропе, останавливается и оглядывается. Слева наплывают друг на друга холмы, все круче забираясь вверх и незаметно для самих себя превращаясь в горы. Справа – сплошная зеленая стена зарослей. Под ногами – тропа, которая неспешно, беря передышку после каждого подъема, уводит туда же, в горы.
Тропа – одна на всех.
Чжу Дэ бросается влево, взбегая на взлобье первого холма, потом перескакивая с камня на камень и цепляясь за ветви и узловатые корни, поднимается все выше. Вот одна голова его видна над кустарником, вот уже только изредка в просветах зелени мелькнет его накидка, и наконец, он хватается за мшистый валун, венчающий переход долины в горы, и устало опускается на него.
Здесь тихо.
Чжу Дэ делает несколько вдохов, чтобы унять сердцебиение, потом встает и идет наискосок к склону, среди редких сосен и голубых елей.
…завидев черную тучу,
Ему, наверное, послышалось.
Взмывает вверх, белизной слепящей сверкая,
И в страхе…
Нет, не послышалось.
…не зная, где скрыться, расселину ищет,
Чжу Дэ замирает, оглядывается: сзади круча, которую он преодолел (мгновенное смущение, гнев – на себя – стыд и внезапное спокойствие), – и идет
Аджакарани-река бывает так прекрасна20!
навстречу голосу, и когда за кустами показалась фигурка в синем платье и красной накидке,
– О боги!
Рада в испуге вскрикивает,
он уже вполне владеет собой.
замерев, потом переводит дух.
Потом краснеет.
– Чжу Дэ…
– Мир тебе, – говорит Чжу Дэ.
Рада, не отвечая, смотрит на него долго, пока не защиплют немигающие глаза.
– Вот мы и встретились, – говорит она наконец.
– Да, – говорит Чжу Дэ, – больше года…
– Четыреста семнадцать дней, – кивает Рада и грустно улыбается, – ты провел у мудрейшего Шахеба в его общине на другом краю долины.
– Четыреста семнадцать! – удивляется Чжу Дэ.
Снова наступает молчание, в продолжении которого они неотрывно смотрят друг другу в глаза, отчего весь мир вокруг начинает дрожать и медленно вращаться.
– Ты – Рада, и я – рад, – говорит Чжу Дэ старую их шутку.
И тогда они начинают смеяться, и возникшее напряжение исчезает.
– Какой ты чумазый, – говорит Рада, и Чжу Дэ рассказывает о том, что он, находясь в уединении, почувствовал что-то неладное, и успел помочь в тушении пожара.
– Шахеб рассказывал о твоих успехах, – говорит Рада. – Он гордится тобой. Тебе скоро проходить посвящение?
– Да, – говорит Чжу Дэ.
– А что потом? – спрашивает Рада неожиданно.
– Не знаю, – взгляд Чжу Дэ снова затуманивается, как будто он вглядывается в себя.
– Но ты хотя бы доволен?
– Не знаю, – снова говорит Чжу Дэ.
– Ну что ж, – смеется Рада, – по крайней мере честно!
– А ты?
– О, у нас все хорошо, – торопливо говорит Рада. – На праздник весны мы освятили новую ступу, очень красивую, всю в каменной резьбе, гораздо лучше прежней…
– Хорошо, – кивает Чжу Дэ, – значит, ты довольна?
– Не знаю, – Рада отводит на мгновение взгляд.
– Ну что ж, по крайней мере честно.
Они снова смеются, наверное, потому, что вдвоем смеяться легче. Чем грустить.
– Скажи, – спохватывается Чжу Дэ, – а что ты здесь делаешь, в этих горах?
– Разве ты не слышал, что треснула плотина, загораживающая озеру путь в долину? Отец уже там. Я несу ему вот это.
Она показывает плоскую металлическую коробочку, переплетенную витыми шнурками.
– Что это?
– Видишь ли, я ничего не понимаю в таких вещах, но отец говорил, что это устройство усиливает мысли.
– Я не понимаю, – говорит Чжу Дэ.
– Ну, вспомни, как он учил тебя передвигать камешки. А с помощью этого…
– Я не об этом, – улыбается Чжу Дэ. – Я не понимаю, для чего нужно усиливать свои мысли чем-то извне.
– Но я же говорю, Чжу Дэ, – одно дело маленький камешек, а другое…
– Никакой разницы! – смеется Чжу Дэ.
Рада пожимает плечами.
– Я понимаю, тебе хочется подразнить меня и посмеяться, – начинает она, – но нам всем сейчас должно быть не до смеха.
– Тем более, пойми, тем более, – Чжу Дэ тоже становится серьезен. – Ну, вот представь, что мысль – это товар… не смейся, ты сама сказала, что сейчас не до смеха… товар, который произвел наш мозг, а потребил другой человек, или дерево, или камень… Так вот, чем больше посредников между производителем этого «товара» и его потребителем, тем он дороже и хуже.
– Золото и драгоценные камни от большого количества посредников не становятся хуже.
– Разве ты не видела золотые монеты, стершиеся от прикосновений бесчисленных рук? Скажи… Учителю об этом, когда его увидишь.
– Как, Чжу Дэ, разве ты…
– Нет, Рада. Скажи ему: у души человека не должно быть посредников, направлена ли она в себя, вкруг него или к небу.
– А ты, Чжу Дэ…
– И еще, Рада, хорошая…
– Скажи еще!
– Если там увидишь мудрейшего Шахеба, передай ему, что я очень прошу его ускорить посвящение.
– Чжу Дэ, ты пугаешь меня. С тобой все в порядке?
– Да. Нет. Не знаю, – Чжу Дэ трет лоб ладонью.
– Чжу Дэ! – голос Рады дрожит и срывается.
– Дело в том, что я… Что ты… Нет, не могу. Прости, – Чжу Дэ, прижав к груди сложенные ладони, кланяется. – Тебе надо идти.
– Что ты будешь делать?
– Я… мне хочется побыть здесь.
Рада прикусывает губу.
…Одному.
Она тоже кланяется Чжу Дэ и молча уходит наискосок вверх по склону.
* * *
Тропа, преодолев несколько подъемов и поворотов, выводит на плато, у края которого расположено горное озеро с хижиной среди скал, – то самое, на льду которого было так жарко маленькому Чжу Дэ. Нет, маленького Чжу Дэ ведь не было никогда, – был маленький Иудж, которого сейчас никто не помнит.
Пространство между озером и обрывом в долину представляет собой гигантскую подкову, полукольцом охватывающим узкую часть озера. Но если приглядеться повнимательнее, то можно заметить правильность подковы, ее симметрию, что так редко в чистом виде встречается в природе. И тогда только приходит понимание того, что эта подкова – дело рук человеческих и на самом деле представляет собой плотину, удерживающую озеро на краю плато.
С обеих сторон подкову сдавливают горы – не подражания горам у холмов между плато и долиной, а всамделишние горы, величавые мосты между землей и небом. Здесь, у их подножья, жаркий солнечный день, а выше – горы по грудь закрыты облаками. А еще выше, выше облаков, за этими горами встают синие исполинские пики, покрытые вечными снегами – хранители Вечности, Гималаи.
По ту сторону долины высятся такие же горы, уходящие в облака. Там, в этой круговерти снега и ветра, – перевал, которым прошел маленький Иудж. Но кто сейчас об этом помнит?
По эту сторону озера, у широкой его части, собрались люди, человек десять-двенадцать. Здесь нет зевак, все буднично-просто.
Выйдя к озеру, Рада замечает стоящих в стороне Наставников вместе с отцом и направляется в их сторону.
Даже среди Наставников, хранителей человеческой мудрости и тайн мироздания, Учитель выделяется, хотя одет очень скромно и больше слушает, чем говорит. Вот и сейчас он, будучи гораздо выше Шахеба, вежливо наклонил к нему голову и слушает его взволнованную речь, время от времени кивая головой.
О, отец, ты как Гималаи среди гор!
Время не властно над ним. Только резче стали морщины на лбу, а седые волосы, перехваченные лентой, выбелены, как свежевыпавший снег.
– …И, наконец, эта фраза насчет отца, – доносятся до Рады последние слова Шахеба.
– Мир тебе, почтенный Шахеб, – здоровается Рада.
– И тебе, лунноликая!
– Ты? Хорошо. Давно пора, – Раффи кивает Раде и заканчивает беседу. – Да, милый Шахеб, все это весьма серьезно, – он устало трет крупный нос, – Не дай, друг мой, потоку событий превратиться в сель, сметающий все на своем пути.
– Шестнадцать лет – вихрь! Ураган! – Шахеб поднимает руки, и оба смеются.
Наконец, Раффи принимает от Рады плоскую металлическую коробочку, вешает ее на грудь и направляется в сторону озера.
– Друзья мои! – голос его разносится далеко во все стороны, хотя он говорит спокойно, почти не повышая голоса. – Я прошу вас быть внимательными и соблюдать осторожность. Еще лучше, если вы поможете мне.
– Как? Учитель, скажи нам, – раздаются удивленные голоса.
– Желайте мне успеха, – улыбается им Раффи и поворачивается в сторону гор, не слыша смеха в ответ, как оценки его тонкой шутки.
Ловкими движениями он оплетает голову витыми шнурками, тянущимися от коробочки и встает, расставив ноги, опустив руки и низко склонив к земле голову.
Наступает тишина, звенящая натянутой тетивой. Все взгляды устремлены на Учителя, который все также неподвижно стоит, словно врастая в землю и наливаясь загадочной и потому пугающей силой. Потом, когда исходящая от него сила стала ощутима на расстоянии людьми, как горный склон, покрытый снегом, за секунду до схода лавины, он медленно, невыносимо медленно, неотвратимо медленно начинает поднимать дрожащие от напряжения руки.
Все, что произошло потом, будет впоследствии пересказываться по-разному, более, но чаще менее правдоподобно. Поскольку все внимание присутствующих было сосредоточено на Учителе, никто не осознал того мгновения, когда одна из гор, особенно близко подошедшая к подкове плотины, дрогнула и сдвинулась с места. А когда люди, не веря своим глазам, уставились на невиданное зрелище, гора уже переместилась на середину подковы, всей своей массой подперев плотину.
Потом Раффи делает глубокий вдох, как человек, долго сдерживающий дыхание, и опускает руки. Плечи его поникают. Он также буднично снимает со лба плетеные шнурочки и поворачивается к собравшимся лицом.
И только когда до людей долетает могучий гул потревоженной земли, а от противоположного берега озера вздымается горб водяного вала, с грохотом разбившегося об этот берег и донесшего до ног собравшихся грязную пену пополам с песком и вырванной травой, они понимают, что все кончено. Оцепенение оставляет их; они переводят взгляд с Учителя на гору и обратно, в громких возгласах и смехе давая выход накопившимся чувствам.
– Учитель! Наш Учитель! – доносятся крики.
– Друзья мои, – говорит Раффи, – давайте вернемся каждый к своим обязанностям. Как вы знаете, у нас у всех их много.
Собравшиеся расходятся, продолжая оглядываться на гору, вставшую между озером и долиной. Наставники, полный Порфирий, маленький высохший Шахеб и всегда серьезный Ахав, подходят, чтобы выразить свое почтение увиденным, ибо они в очередной раз увидели, что он – воистину Учитель учителей. Рада подбегает к отцу и целует его в лоб.
– Ну, полно, полно, стрекоза, – ворчит Раффи, – уж тебе-то чему удивляться, если и ты можешь пользоваться этой игрушкой.
– Да, ты мне показывал, – кивает Рада, – но я бы сама никогда не решилась на такое.
– Решение приходит, когда это действительно надо, вот и все, – говорит Раффи.
– А вот Чжу Дэ говорит, что…
– Чжу Дэ? – восклицает Шахеб. – Ты его видела? Где он?
– Погоди, старый мальчишка, – говорит ему Раффи и обращается к Раде. – Так что говорит Чжу Дэ?
– Он говорит, что на самом деле это устройство не нужно.
– Вот как! И ты, Раффи, называешь мальчишкой меня? – горячится Шахеб.
– Ты считаешь, что это возрастное? Боюсь, что нет, – Раффи качает головой. – Что еще говорил Чжу Дэ?
– Он… Да, он сказал – это его слова, – что у души не должно быть посредников. И что он просит тебя, многомудрый Шахеб, ускорить подготовку к посвящению.
– Он так и сказал? Радость моя, Чжу Дэ! О, Владычица неба и звезд! – Шахеб прижимает руки к груди. – Раффи, пресветлый, позволь мне…
– Друг мой, что за церемонии? Конечно, иди! Когда ты хочешь провести испытание?
– Два дня на подготовку… На третий день, считая от сегодняшнего.
– Хорошо. Иди, славный мой Шахеб, у тебя много дел.
Шахеб торопливо уходит в сопровождении Айсора. Раффи присаживается на камень, разогретый солнцем, жестом приглашая Раду на камень рядом.
– Отец, по-моему, это просто дерзкие слова хвастливого мальчишки, который сам не знает, чего он хочет.
– Ох, какие праведные речи я слышу от тебя, великовозрастная ты моя и рассудительная! Всегда ли ты знаешь, чего хочешь?
Рада краснеет, потом внезапно, потупив голову, еле слышно говорит:
– Да.
Раффи гладит ее по голове и целует в лоб.
– Может быть, именно в этом разница между ним и тобой, – говорит он задумчиво и, отерев ладонью лицо, продолжает: – Этот мальчик удивлял и продолжает удивлять меня. Я внимательно слежу за ним. Он с легкостью перепрыгивает ступени, по которым его ведут Наставники. Ему тесны их рамки.
– А если их убрать, эти рамки?
– Ни в коем случае! Эти рамки, эти ступени шаг за шагом совершенствуют душу, шлифуют ее и, в конечном счете, одухотворяют. Ибо дух – это ограничение.
– Разве дух – это не свобода, отец?
– Чем отличается дикая полынь от розы в саду? Человек прививает черенок, пересаживает на другое место, подрезает растущий куст, то есть насильственно вторгается в жизнь растения таким образом, что вынуждает его усиливать одни свои качества, такие, как величина цветков, их аромат, ценой утраты других качеств, таких как выносливость, приспособляемость или плодовитость. То же и с дикими зверями и одомашненными. То же и с человеком. То же и с Вселенной, ибо тяготение, кривизна полей и тонких оболочек, само время – это ограничения, которые налагает на себя Мировой Дух. Не будь их, вокруг безраздельно царил бы хаос. Поэтому талант, как дар Духа душе, – это всегда ограничение, отречение от чего-то во имя своего раскрытия. Сними эти ограничения – и ты получишь дикаря.
– Мардус, – негромко говорит Рада.
– Правильно. Вот хороший пример великих возможностей, которые оказались нереализованными – из-за того, что в какой-то момент были сняты или ослаблены рамки. Интересно их сравнить – Мардуса и Чжу Дэ. Один с упоением ломает все условности, затаптывая свой дар в грязь, находит в этом какое-то болезненное удовольствие и грешит, надо признать, весьма искусно, даже талантливо. Другой играючи перерастает все рамки и, тем не менее, оглядывается в поисках новых рамок, сознательно, тоже с болезненным самоистязанием загоняет себя в них, – чтобы перерасти и их тоже. Порой я ловлю себя на том, что не знаю, что будет, когда возможности мои и Наставников окажутся исчерпанными и он перерастет все наши рамки. Более того, – Раффи покачал белоснежной головой, – я не знаю, с каким чувством я жду этого, – с нетерпением и интересом или болью и тревогой.
– Что с ним, отец? – негромко спрашивает Рада. – Я боюсь за него.
– Бедный мальчик, он сейчас в том возрасте, когда особенно важно влияние отца, и даже не само влияние, а просто сознание того, что он есть. Где, ты говоришь, его видела?
– По ту сторону плато, на окраине леса. Только, отец…
– Что, Рада?
– Он не хочет ни с кем разговаривать.
– Успокойся, – Раффи встает и снова целует Раду в лоб. – Я не буду с ним разговаривать. Бери игрушку и ступай домой. Я не задержусь.
* * *
Над скалой недалеко от хижины осторожно высовывается голова, цепким взглядом окидывает опустевший берег озера.
Это Мардус.
Он еще раз смотрит на передвинутую гору, потом вниз, где по склону осторожно спускается Раффи.
– Неплохо, совсем неплохо, – говорит он. – Маленькая-маленькая коробочка и большая-большая гора, да? Вот и ладно.
Голова его снова исчезает за скалой.
* * *
Раффи замечает Чжу Дэ на фоне плотнотканого ковра леса, когда тот, изогнувшись упрямым чинаром на крутом склоне, медленно преодолевает каменистый гребень в черных блестках россыпей обсидиана, и негромко окликает его. Чжу Дэ оглядывается на крик и, завидев Учителя внизу, выпрямляется, так что голова его оказывается выше кромки леса – ворох пшеничных колосьев, брошенный в синее небо. Раффи машет ему рукой и поднимается к нему.
– Вовремя я тебя заметил, – он, улыбаясь, переводит дух и отирает лицо ладонью, – мне ведь за тобой не угнаться. Мир тебе, отшельник.
– И тебе, – тихо отвечает Чжу Дэ. – Что-нибудь случилось? Нет? Что же тогда – Учитель пришел к нерадивому ученику?
– Я соскучился по тебе, – просто говорит Раффи.
Чжу Дэ молчит, глядя в сторону и отвернувшись. Потом поворачивается к Раффи.
– Прости меня, – говорит он, – я…
Раффи поднимает руку, останавливая Чжу Дэ.
– Пойдем, – говорит он.
И направляется к лесу, что набирает силу отсюда, от гребня, впитывая зеленые ручейки, стекающие с окрестных склонов, а затем неудержимым валом затопляет медленно уходящее вверх плоскогорье.
Раффи идет вглубь леса, легко и бесшумно ступая по долгогривым волнам травы и мха, чуть впереди Чжу Дэ, как когда-то, давным-давно, вел маленького Иуджа к озеру на испытание. Лучи полуденного солнца, пробиваясь сквозь зеленый шатер над их головами, освещают его белую голову короткими сполохами. Раффи идет неторопливо, внимательно рассматривая лес, усердно кланяется, ныряя под лапы ельника, осторожно переступает поваленный бурей ствол, с жадным интересом склоняется к рассыпанным в сыром зеленом полумраке жемчужинам ландыша. Вспугнутый заяц, с треском рванувший от них сквозь сухостой, зажигает его доверчивые глаза в сетке морщин мальчишеским азартом. Он идет, и эта прогулка по лесу, как и все, что бы он ни делал, совершается просто, буднично, но вместе с тем как-то особенно вкусно, так что невольно захватывает, заставляет глядеть на все его глазами, и тогда каждый шаг его оказывается преисполнен особого, скрытого смысла, а мир вокруг утрачивает привычное дробление на низменное, возвышенное, будничное или торжественное, а незаметно и вдруг становится единым, пронизанным мерцающим светом единосущности, и сам он при этом воспринимается неотъемлемой частью этого мира.
Чжу Дэ идет за Учителем, чуть сбоку. Лишь иногда он украдкой бросает взгляд, полный затаенной нежности к этому непостижимому человеку, все идущему безостановочно вперед. Вновь вспомнив их встречу, первые слова, он вспыхивает румянцем стыда за себя, дерзкого и безответственного. Раффи… Сколько такта в тех немногих словах! Им не было сказано ничего особенного, а Чжу Дэ затопила теплая волна любви и заботы, идущая от этого человека.
Мне никогда не стать таким, как он.
Раффи останавливается, оглянувшись через плечо, и переводит дыхание.
– Я не устал, Учитель, – говорит Чжу Дэ и снова краснеет. – А ты? – добавляет он.
– Ничего, – улыбается Раффи, – осталось немного.
И снова трогается в путь.
Плоскогорье незаметно становится все круче, а лес, как ни странно, – все гуще. Но не той густотой, когда молодые деревца теснят и изводят друг друга, а могучей, внушающей невольное почтение сплоченностью дружины, добрый век плечом к плечу встречающих радости и беды. И тогда по странному этому сочетанию подъема склона и зрелой красоты леса становится понятно, что здесь – верхняя точка плоскогорья; отсюда лесу уже ничто не мешает безостановочно изливаться дальше и вниз, на три полета стрелы, пока зеленый вал не разобьется о твердыни Гималаев.
Верхняя точка эта образует нечто вроде округлой ровной ступени, перед которой останавливаются вековые дружинники, словно придворная свита перед троном своего государя.
А на троне этом одиноко стоит сосна.
Чжу Дэ невольно скользит взглядом вверх, и глаза его широко раскрываются, когда он замечает, что ствол сосны не ветвится на привычной человеку высоте, а продолжает могуче и безостановочно тянуться все выше вверх, уходя за вершины окрестных деревьев.
Он оглядывается на Раффи. Учитель, улыбаясь, отирает лицо ладонью и оглаживает бороду.
– Давай немного посидим, – говорит он и жестом приглашает Чжу Дэ к нагретому солнцем гранитному зубу, вышедшему на поверхность.
Чжу Дэ усаживается рядом и смотрит на сосну.
Он смотрит на сосну,
вбирая синими глазами невиданную комлевую часть,
берущую начало от разлапистых корней,
надежно взявшихся за гранитное основание,
чтобы вся грандиозная надземная часть
спокойно царила в воздухе.
Ствол в три обхвата не кажется толстым, —
только охватив взглядом все дерево,
можно почувствовать соразмерность всех его частей,
и эта соразмерность рождает ощущение легкости,
почти невесомости,
так что дерево кажется свободно парящим в воздухе,
и от сочетания громадности и парения захватывает дух.
А потом сосна представляется воплощением человеческой жизни.
Выходящие кое-где на поверхность узловатые корни
выскоблены ветром и влагой
до желтизны могильных костей; уйдя навсегда в землю,
они словно продолжают нести на себе
груз последующих поколений.
Комель изборожден глубокими змеящимися вдоль морщинами, напоминая натруженные руки старухи цвета земли, которая так близко.
Ствол горделиво налит соками, словно тело зрелой женщины, в расцвете красоты и плодовитости.
Еще выше, у начала кроны, пленительные изгибы и повороты янтарной, подсвеченной солнцем плоти
говорят о невесте в зеленом брачном наряде.
На вершине переплетение мелких веточек
с шаловливо растопыренными длинными пальцами хвоинок-сеголеток – девочка, совсем еще подросток, угловатая, большеглазая, встающая на цыпочки и вытягивающая худую шейку, чтобы заглянуть, хотя бы на мгновение заглянуть в свое будущее.
Наконец, у самых кончиков веточек, там,
где хвоинки собраны в старательный пучок,
таятся глазки почек, словно новорожденные,
заботливо спеленутые и вознесенные к самому солнцу.
Взгляд снова охватывает всю сосну целиком,
и соразмерность ее частей диктует необходимость
вообразить под землей корневую часть,
как зеркальное отражение кроны,
и тогда сосна перестает быть просто деревом,
а представляется неким надсознательно созданным странным существом о двух головах
со своим, непостижимым одноголовым двуногим,
смыслом жизни, – о двух головах,
каждая со своим сознанием, соединенных прямой перемычкой ствола.
А впрочем, почему прямой, – природа не терпит прямоты;
ствол этот обладает кажущейся прямотой,
складывающейся из бесчисленных неправильностей, изгибов, трещин, неровностей, выемок и свищей.
И, в свою очередь, крона, напоминающая голову младенца в кудряшках, складывается из бесчисленных закруглений и водоворотов формообразующей плоти, повторяющих ее очертания,
те же кудряшки, но иначе, на ином уровне, тоньше, инозначно, – и так вплоть до немыслимо малых размеров, до той грани, что разделяет плоть
от пугающей и восхитительной пустоты, —
восхитительной, потому что пустота опровергает себя,
извергая ежемгновенно из себя плоть, —
ничто, рождающее нечто, или не-сущее, рождающее сущее, – так что граница между сущим и не-сущим зыбка и неуловима, колеблется и изгибается,
здесь и сейчас повторяя те же очертания,
те же кудряшки, но на своем, инобытийном, уровне.
Тогда иначе воспринимается все дерево;
взгляд охватывает его целиком,
но не само по себе, а со всем окружением:
от молчаливой свиты у подножия
до гудения невидимого отсюда шмеля,
от стайки незабудок под ногами
до пляски пылинок в столбе солнечного луча,
напоенного терпким запахом разогретой смолистой хвои.
Тогда становится ясно, что здесь и сейчас нет ничего лишнего, нет малого и большого, незначительного и важного.
Все, входящее в окоем, исполнено вибрациями своего существования,
и вибрации эти, сливаясь, создают сложную и неповторимую музыку именно этого пространства
именно в это мгновение и, более того, – они образуют условия существования этого пространства и времени именно таким.
И царица-сосна владычествует здесь не сама по себе,
а напротив, —
она обязана своим существованием
гудению рассерженного шмеля в отдалении,
тихой настойчивости гриба в развилке корней,
застывшему неподвижно ворону
на горизонтально протянутой ветви,
пляске пыльцы в столбе солнечного света,
деловитой суете неутомимых муравьев,
вспыхнувшей среди травинок, наискосок им, паутине.
Взгляд синих глаз охватывает исполинскую сосну
от корней до кроны,
но не внешнюю, изменчивую и поддающуюся распаду,
оболочку, а ту, исконную, нутряную,
составляющую прообраз или, вернее, пра-образ сосны.
Он, величественный, наличествовал век тому,
когда из набухшего крылатого семечка
проклюнулись навстречу солнцу
первая пара боязливых мягких иголочек.
Он, царственный, наличествовал тьму веков тому,
когда на месте этого леса
катились одна за одной волны доисторического моря,
ибо великая цепь перемен вела и привела
к его теперешнему воплощению.
И вот она стоит, в величавом своем спокойствии.
Но спокойствие это кажущееся,
потому что условна и зыбка граница между нею
и окружающим миром, и, составляя единое с ним целое,
она проникает, врастает, вживается в него,
ловя напряженными хвоинками малейшее биение
на границах своего существования.
И луч, пронзивший невообразимую холодную даль,
чтобы коснуться простершейся в дремотной неге ветви,
не кажется наградой дереву,
ибо не может быть наградой часть целого.
Вот тогда-то сосна оказывается чем-то большим,
нежели дерево,
и большим, чем воплощение своей сути, —
сила, вызвавшая ее существование, та надмирная сила,
что запустила мерное биение жизни в мертвом доселе прахе, явила в ней свой многажды изменчивый облик и ушла,
обратясь в другие пространства, оболочки и формы.
Но сосна —
сосна сохранила эту мерцающую искру,
и, отталкиваясь от праха и напрягая все силы туда,
куда зовет ее внесосновая, надродовая память,
она перестает быть деревом,
она – мост, перемычка,
пуповина между землей и небом,
хаосом и космосом,
прахом и Духом.
Ворон, расправив крылья, черным крестом наискосок падает сквозь напоенное солнцем зеленое пространство и летит дальше, вглубь уходящих вниз от трона деревьев.
Чжу Дэ вздрогнув, оглядывается. Раффи сидит, полузакрыв глаза, и губы его шевелятся.
– Что ты говоришь, Учитель? – спрашивает Чжу Дэ.
– Тебе ничего не показалось странным? – по-прежнему не открывая глаз, спрашивает Раффи.
– Нет, а что?
– Может быть, показалось, – Раффи открывает глаза и встает. – Пойдем?
Чжу Дэ кивает, и они уходят, – Учитель немного впереди, как много лет назад, когда вел маленького Иуджа к замерзшему озеру на испытание.
* * *
У опустевшего подножия трона какое-то время тихо, а потом тишину нарушают чьи-то голоса, смех, треск сучьев. Затем в ствол с силой врезается пущенный умелой рукой топор.
К подножию выходит Мардус со своими телохранителями.
– Отличное местечко, – говорит он, оглядываясь, – тут чувствуешь себя младенцем на руках у кормилицы.
– Вот с такой грудью, – подхватывает один из приятелей.
Компания хохочет.
– Посмеялись, жеребцы? – Мардус опускается на землю у корней сосны. – А теперь слушайте своего командира, отца-кормильца. Здесь будет наш временный лагерь. Один разводит костер, другой приводит сюда всех остальных, третий добывает еду, а то я от голода начну грызть кору… Двое неотступно находятся при мне, потому что, – Мардус потягивается и зевает, – потому что мои планы могут в любой момент измениться.
Люди расходятся. Оставшиеся двое усаживаются рядом со своим вожаком.
– Послушай, Мардус, – спрашивает один из них, – а то, что ты говорил насчет горы, – тебе не померещилось?
– Такое может померещиться только тебе, Малх, – говорит Мардус, сосредоточенно шлифующий лезвием кинжала свой любовно выращенный ноготь на мизинце, – а мне, если что и может померещиться, то красивая девушка, к примеру, царский трон или голова Калки Аватара на колу. Конечно, не померещилось! – он снова оживляется. – Вы только представьте себе – раз, два, и готово. Маленькая-маленькая коробочка – и большая-большая гора.
– Раз, два, и готово, – повторяют приятели, Малх и Хор.
– Заполучить бы ее, – мечтательно говорит Мардус, – и можно стать повелителем мира!
– Коробку унесла девчонка? – спрашивает Малх. – Кружным путем, по тропе мимо полей, она дойдет нескоро. Напрямик, через лес и обрыв, можно ее перехватить.
– Да, мой верный Малх, – Мардус презрительно сплевывает, – сообразительности у тебя не больше, чем у дохлого шакала. Она при виде тебя возьмет свою маленькую-маленькую коробочку, и большой-большой Малх проваливается в глубокую-глубокую преисподнюю.
Они смеются.
– Стрела летит быстро из-за куста, – цедит уязвленный Малх.
– Родной мой, – ласково говорит ему Мардус, – я прикажу отрезать твой язык и затолкать его тебе в задницу, если ты скажешь мне об этом еще раз. И вообще, хватит о ней!
– Ну, если о ней нельзя, тогда можно о глухонемой, к которой ты до сих пор крадешься по ночам? – ядовито спрашивает Малх.
Хор смеется.
Мардус, нахмурившись, тянется к кинжалу у пояса, но вдруг взгляд его затуманивается.
– Оэ? – говорит он. – Может быть, может быть…
– Может быть, ты не дохлый шакал, мой высокомудрый Малх, а настоящий волк, – Мардус снисходительно хлопает того по плечу, – потому что ты дал мне хорошую мысль.
– Какую, начальник? – спрашивают оба.
– Тихо! – останавливает их Мардус. – Теперь я буду думать, чтобы маленькая-маленькая мысль стала планом большого-большого дела.
* * *
На исходе следующего дня ближайшие посвященные выводят Чжу Дэ из его кельи в отдалении от домов герметической общины. Он в белоснежных одеждах, задумчив и решителен одновременно. Его встречают члены общины, выстроившиеся по обе стороны дороги, по которой продвигается шествие. Дети, мужчины и женщины, – одни из них приветствуют Чжу Дэ, другие оплакивают. Многоголосый хор, состоящий из криков радости и смеха и скорбных стонов и слез – да и белый цвет его одежд – это не только цвет надежды, но и цвет смерти – провожает его всю дорогу до отдаленной от жилья ровной площадки, на которой высится небольшая, в тридцать локтей, но внушительная пирамидальная гробница. Провожающие здесь останавливаются, ибо дорога дальше доступна лишь посвященным. Они ведут Чжу Дэ в сторону от гробницы, за нагроможденные в кажущемся беспорядке каменные глыбы. Здесь, у потайного входа в гробницу, Чжу Дэ и сопровождающих его встречает Шахеб с чадящим в лучах заходящего солнца факелом.
Чжу Дэ останавливается перед ним, склоняя голову в поклоне.
– Приветствую тебя, наследник учения Пса и Луны, мудрость которого не исчерпана до сих пор поколениями толкователей.
Шахеб говорит торжественно, но голос его дрожит от волнения.
– Приветствую тебя, Хранитель великого учения, чью мудрость не исчерпать тем, кто делит с тобой кров, пищу и солнечный свет, – почтительно отвечает Чжу Дэ.
– Ты прошел по всем ступеням постижения тайных знаний земли, – продолжает Шахеб, – ты постиг устройство камней, растений, животных и человека; ты познал искусство врачевания и возведения мостов, храмов и домов; ты понял тайну Числа и Музыки; ты в совершенстве изучил то, что именуется Первым кругом, или темным знанием. Подтверждаете ли вы мои слова? – обращается он к присутствующим посвященным.
– Подтверждаем и разделяем, о Учитель, – отвечают они с поклоном.
– Готов ли ты сделать шаг для того, чтобы вступить во Второй круг, круг величайшего знания Гермеса, – знания Озириса четырехсущностного?
– Готов, – отвечает Чжу Дэ.
– Все живое проходит путь от рождения к смерти, возвращаясь к породившему их Свету и замыкая тем самым великий круг превращений. Теперь ты должен пройти этим путем мертвых, чтобы воскреснуть в новой своей сущности, исполненной Света. Готов ли ты вступить в царство Озириса?
– Готов, – отвечает Чжу Дэ.
По знаку Шахеба Чжу Дэ подносят чашу с теплым и горьковатым питьем, а Шахеб поднимает факел и обводит им пылающую окружность вокруг головы Чжу Дэ, после чего гасит его.
Чжу Дэ идет вслед за Шахебом (четверо посвященных остаются у входа) во внутренние покои по узкому коридору, своды которого постепенно понижаются, так что совсем скоро им приходится пробираться вперед низко нагнувшись. Кое-где, а по мере продвижения вперед все реже, у стен светильники, в мерцании которых на стенах проступают изображения зверей, птиц и растений; их приходится скорее угадывать, чем видеть, отчего они кажутся пришельцами из другого мира. После неожиданного поворота влево и вниз светильники пропадают, так что дальнейший путь проходит в полном мраке.
Наконец, по мерному дыханию впереди Чжу Дэ догадывается, что Шахеб остановился. Здесь холодно, зато можно стоять почти во весь рост, а тело не ощущает давления окружающих стен, в чем Чжу Дэ убеждается, проведя рукой вокруг и встретив пустоту.
– Закрой глаза, – вдруг говорит Шахеб.
Чжу Дэ повинуется, не успев удивиться странному приказу.
– Теперь открой, – вновь говорит Шахеб.
Чжу Дэ открывает глаза и невольно щурится от непривычного света, заполняющего каменный склеп со сводчатым потолком, в центре которого стоит мраморный саркофаг.
Солнце – здесь, в подземелье?
– Пройдя дорогой мертвых и вновь воскреснув в этом саркофаге, – говорит Шахеб негромко, – ты преисполнишься света подобно тому, как он заполняет келью, спрятанную в чреве каменной гробницы.
Голос его звучит странно, преломляясь в каменном переплете свода.
– Я уверен в тебе, – продолжает Шахеб, – но долг Наставника обязывает спросить тебя еще раз: исполнен ли ты мужества, чтобы достойно пройти через смерть и воскрешение в царстве Озириса?
– Готов, – глухо говорит Чжу Дэ.
– Солнце скоро зайдет, – говорит Шахеб, глядя на тускнеющие стены.
Чжу Дэ кивает, сглотнув комок, подступивший к горлу.
Я люблю тебя, милый, добрый старик.
– Но оно взойдет снова, с тобой и в тебе, – говорит Шахеб и отступает к выходу из кельи.
Чжу Дэ укладывается в саркофаг, леденящий тело.
Я часто противоречил тебе и спорил с тобой; и сейчас я иду на это испытание не потому, что согласен с тобой, – мною движет любовь.
Свет так же внезапно меркнет.
Чжу Дэ остается один в темноте гробницы.
* * *
Ночь.
Айсор просыпается от смутного ощущения тревоги. Он приподнимается на локте и прислушивается. Все тихо, но тишина эта, не нарушаемая никаким звуком, наполняет его безотчетным страхом. Хижина погружена в темноту, но темнота эта распределена в ней по-разному, а недалеко от его ложа сгущение этой тьмы особенно сильно, и именно отсюда исходят волны тревоги. И тогда он странно спокойно, как бы со стороны, понимает, что сгусток тьмы во мраке – это стоящий у его изножья человек, и эта мысль настолько отчетлива, что он даже не успевает испугаться, продолжая приподниматься. А в следующее мгновение тьма обрушивается на него.
Айсора выволакивают во двор чьи-то невероятно сильные руки. Лунный свет заливает здесь еще несколько фигур. Рядом с ними беззвучно бьется на земле Оэ.
Те же руки хватают его за шиворот и швыряют, словно нашкодившего щенка. И, как продолжение всего этого ночного кошмара, в бок ему упирается голодное жало кинжала, и приятный, немного хрипловатый голос вкрадчиво изливается ему в ухо:
– Такой красивый, такой молодой человек, как ты, наверное, очень любит жизнь, этот воистину драгоценный дар.
Айсор дрожит, и это единственное, что он может сделать. А голос продолжает:
– Особенно если это не жизнь вообще, а его собственная, единственная и неповторимая, со всеми своими прелестями и удовольствиями.
Айсора начинает бить крупная дрожь.
– Я великодушно предоставляю тебе, красавчик, – продолжает голос, – выбрать прелести и удовольствия для себя либо в этой жизни, либо в жизни загробной. В первом случае тебе помогу я и мои верные волки, а во втором – кинжал, а потом черви, жирные, толстые и холодные.
Кинжал слегка покусывает ему бок, и он цепенеет, изнемогая от ужаса и безысходности. Его бесцеремонно встряхивают, словно ворох запревшего тряпья.
– Ну? – теперь голос обретает твердость стали.
– Я… я хочу жить! – торопливо говорит Айсор.
– Ты знаешь, – голос Мардуса вновь обретает лукавую вкрадчивость, – ты знаешь, я почему-то так и думал. Тогда веди нас, ценитель этой жизни!
– Куда? – спрашивает Айсор.
– А ты разве не понял?
– Понял, – глухо говорит Айсор, внезапно успокоившись.
Сзади к ним бросается Оэ, хватая Мардуса за колени и что-то мыча. Ее оттаскивают; она отбивается и снова бросается к нему. И тогда Мардус внезапно и страшно валит ее с ног пощечиной наотмашь. Оэ, обмякнув, падает в черный провал, образованный тенью крыльца.
– Вперед, мои волки, – говорит Мардус.
* * *
Мрак настолько густой, что не кажется черным, он не имеет цвета, потому что даже черный цвет – это все-таки цвет; он никакой.
Он осязаем, как мрамор саркофага, и так же холоден.
Саркофага?
Да, что давит на него сверху холодной громадой, а сам он при этом распластан на ледяной глыбе мрака.
Они, мрак и мрамор, меняются местами, продолжая сдавливать его и подчиняясь при этом какому-то прихотливому ритму.
Мелодия – четыре звука разной высоты, соотносящихся друг к другу так же, как их продолжительность, – четыре угла квадрата, и, бесконечно повторяясь, каплями из вечности в вечность, они образуют круг, невыразимо медленно вращающийся перед глазами.
Как тихо вокруг, даже больно ушам.
Смешно и немного стыдно – принять за мелодию эти пугающе большие, неподвижные, широко раскрытые, так что видны одни провалы зрачков, глаза напротив.
Глаза уставлены прямо перед собой, но их странная неподвижность рождает сомнения в их реальности.
Хотя нет, – сейчас заметно, что зрачки, пульсируя, расширяются все больше, что говорит о принадлежности их владельца к миру живых.
И если зрачки расширяются при внезапном испуге, то владелец этих глаз находится в состоянии наивысшего страха, даже животного ужаса.
Внезапно глаза моргают, отсвечивая вечерним небом.
Это его глаза.
Он протягивает руку и начинает спокойно рассматривать этими глазами свои пальцы, узкие, длинные, сохранившие трепетное изящество после стольких лет изнурительного ручного труда, с голубоватыми полупрозрачными ногтями, небольшими, но четко очерченными утолщениями фаланг, – а вот здесь должен быть шрам от пореза – когда это было, да, маленький, маленький, ну конечно, маленький Джиад играл с кинжалом старого Гундофара и порезался, – а сейчас ничего нет, и это правильно, ведь если давно нет никакого Джиада, то как может остаться его шрам, – фаланг, облаченных в матовую и бледную, но теплую на ощупь и словно подсвеченную изнутри кожу, так что на границе плоти и воздуха она мерцает розовым, с редкими светлыми, почти рыжеватыми, словно камыш, прихваченный осенним заморозком, волосками – и собирается с пальцев ручейками, в мелких завитушках водоворотов и перекатов, в озеро ладони с его омутами, подводными течениями и опасными отмелями, подпираемым крутояром большого пальца и плавно перетекаемым в мелководье тонкого запястья, где, словно неугомонный ключ подо льдом, бьется жилка.
Пальцы находятся в беспрерывном движении, словно нащупывают нечто невидимое, – нащупывают, извлекают, разминают, гладят, мнут и расправляют, и из-под них появляется медленно растущий шар.
Шар неотвратимо вспухает, продолжая – рук уже нет – продолжая вибрировать, но теперь, при таких его громадных – не вбираемых в себя сознанием – размерах, эти вибрации производят странно гнетущее впечатление.
Они расходятся по поверхности, словно волны, которые становятся все выше и крупнее.
Нет, это просто поверхность стала ближе, она у самых (своих) глаз, и глаза теперь видят, что это вовсе не волны, а мучнисто-белые, кольцеобразные черви, поспешно расползающиеся в разные стороны.
Шар лопается беззвучно, при этом черви сворачиваются в клубки, они уже далеко, так что с высоты роста кажутся комочками праха, которые ветер гонит вдаль.
Ветер гонит вдаль прах и песок, прах, песок и пыль, прах, песок, пыль и едкий дым под заунывную мелодию, которую прерывают – продолжая при этом и выражая по-своему неповторимо – крик осла и кашель шакала.
Равнодушная змея с головой рано одряхлевшей от постоянного недоедания нищенки деловито описывает круг с караваном навьюченных верблюдов в центре.
Погонщик верблюдов далеко впереди.
Погонщик верблюдов бос, но даже со спины величав и весь, с головы до ног, обмотан разноцветными лентами – красными, зелеными и желтыми.
Он сед до белоснежности, как и его борода.
Раффи.
Он держит на сгибе локтя иссиня-черного ворона, которого учит, чтобы скоротать дорогу, не гадить во время еды и соблюдать очередность жизненных процессов.
Ворон делает успехи и ликующе каркает.
Время от времени, когда устает, он прерывает урок и распрямляет крылья, словно человек, кто, вспотев, распахивает полы одежды для прохлады, и тогда становится похожим на небольшой черный крест, внезапно оперенный.
Караван уходит вперед.
Догнать, обязательно догнать и остановить.
Раффи все ближе.
Шуршат, развеваясь на ходу, ленты.
И когда до него остается несколько шагов, он оборачивается.
У него нет лица.
Ворон слетает с его руки на ступу.
Из цепочки верблюдов в караване выбегает разъяренный слон.
Ворон взлетает над ним, и слон топчет ногами ступу, наполненную спелыми ягодами кизила.
Отдельные ягоды скачут в стороны, словно капли крови по пыли из раны, небольшой, но полученной от мастерского удара – глубоко и в жизненно важную часть тела.
Раздается заполошный крик, смесь рыдания и смеха, когда страдание превосходит способность тела терпеть боль.
Откуда крик?
Он один.
Он?
Он начинает с изумлением рассматривать (свое?) гигантское ухо, сросшееся с его правой ногой, так что идти теперь можно только боком и наискосок влево, подволакивая под себя ухоногу.
Каждое движение причиняет мучительную боль барабанной перепонке, так что, в конце концов, он садится, вернее, падает, измученный, но перепонка продолжает болеть и вспучиваться из уха гигантским пузырем, словно раздуваемая переполняющей его мукой, что сопровождается сводящим его с ума заунывным визгом на грани человеческого восприятия и вот уже за этой гранью, когда звуки обретают цвет и плоть, а цвет становится кричащей плотью.
Этот – звукоцвет? цветозвук? – продолжается до тех пор, пока он не делает попытки встать, и тогда гигантский пузырь лопается, и через него прорастает сосна с сочным янтарным стволом, словно тело зрелой женщины, в расцвете красоты и плодовитости, но вместо двух – парных – символов женской плодовитости у нее только один, а второго нет, а есть уродливая язва, покрытая шрамами.
Шрамы змеятся по коре во все стороны, и она растрескивается; трещины разрастаются вширь и вглубь, так что, в конце концов (сосна продолжает расти), кора отваливается от ствола кусками, обнажая белеющую плоть – бесстыдно и горделиво вздыбленную мужскую плоть – символ владыки и повелителя.
Ноги странного исполина с женской – одной, но царственно-прекрасной – грудью и подавляющим своей мощью мужским естеством вросли глубоко в землю, а выше плеч клубятся белоснежные облака, и лица не видно, но увидеть его лицо крайне важно, тем более что он не может никуда сдвинуться со своего места.
Сын мой.
От этого голоса рушатся горы и беззвучно разевает рот петух на нижней ветке.
Красивая золотистая змейка шаловливо обвивается вокруг корня и ускользает в свое логово под землей.
Во что бы то ни стало наверх, успеть увидеть его лицо.
У подножия роется в земле, утробно похрюкивая, смердящая от грязи свинья, не обращая внимания на лестницу под ногами.
Скорей!
Осторожно, ступени шаткие.
Как далеко земля.
Ухватиться окрепнувшей, странно очужевшей рукой с холено выращенным ногтем на мизинце за нижнюю ветвь и осторожно подтянуться.
Еще.
Вспышки света сменяются тьмой, все колеблется, уплывает, качается и мельтешит перед глазами, руки тяжелеют, почему-то чем дальше, тем труднее, а ведь должно быть наоборот, ноги наливаются свинцом, не пошевелить ни рукой, ни ногой, грудь сдавлена.
Скорей!
Пространство сужено до ребер.
Ребра первыми воспринимают вибрации извне, грубые, почти отталкивающие.
Вибрации?
Тряска, выматывающая душу тряска.
Заунывная музыка, состоящая из неравных дробных ударов во множество мелких барабанов.
Музыка?
Стук копыт.
Стук копыт по каменистой дороге.
Стук копыт.
17
Сеп (египетск.) – наследственная душа, причинное, или казуальное тело человека, передающее информацию в следующие воплощения.
18
Карма (санскр.) – в индуизме то же, что Сеп у египтян.
19
Окоем – название гробницы у египтян.
20
Тхерагатха, 307—308.