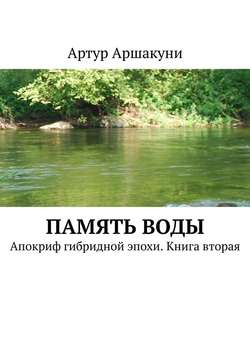Читать книгу Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга вторая - Артур Аршакуни - Страница 5
Часть вторая
Глава четвертая Старая колыбель
ОглавлениеВозвращаясь с очередного славно проведенного дежурства, Пантера и Тит издали услышали звуки труб и барабанный бой.
– Эге! – Тит остановился и прислушался. – Пантера, это не нас с тобой встречают с такой торжественностью?
Он засмеялся, довольный. Не дождавшись ответа от друга, оглянулся.
– Пантера!
Пантера стоял, рассматривая лошадиные яблоки.
– Пантера!
Тит озадаченно помедлил, потом снова рассмеялся.
– Жрецы могут толковать будущее по потрохам, – он подошел к Пантере, – а ты, видать, умеешь делать то же самое по дерьму.
– Яблоки совсем свежие, – задумчиво проговорил Пантера, – вот здесь. А здесь – уже подсохшие. Но вчера их не было. Значит, они утренние. Здесь прошло много лошадей, Тит, не будь я… впрочем, неважно.
– Ну и что? Перегоняли табун. Что тебе до этого?
– Табун? Лошадей?! Здесь, в нищей Иудее, кошка считается богатством, откуда у них табун лошадей?
– Здесь полно египтян, сирийцев, эллинов, – Тит не желал сдаваться. – Десятиградие21 рядом. Знаешь, какие они лошадники?
– Знаешь, как мне хочется приложить кулак к твоему уху за твое ослиное упрямство! – обозлился Пантера. – Посмотри на следы, лошадник! Разве так ходит табун? Правильными рядами, по пять в ряд?
– Сдаюсь, – засмеялся Тит. – Правильными рядами по пять в ряд ты меня доконал. Тогда что это?
– Это не табун, – Пантера покачал головой. – Это регулярная римская кавалерия на походном марше. Утром они прошли по направлению к нашему лагерю, а только что вернулись обратно.
– Нет, тебе точно надо было идти в оракулы, – Тит покрутил шишковатой головой. – Может, ты скажешь еще, зачем они приходили? И еще – какой они были масти? И главное – сколько среди них кобыл и сколько жеребцов?
– Не знаю, – медленно сказал Пантера, не откликаясь на шутку, – но когда собирают легион в полном составе в мирное время, мне это не нравится. Прибавим шагу.
Друзья поспешили в лагерь, прошли ворота, миновали форум и вскоре уже пробирались по главной улице между правильными рядами палаток к расположению их декурии. До них донесся женский смех из одной палатки, а немного погодя – высокие пьяные голоса из другой.
– Пантера, ты хоть что-нибудь понимаешь? – Тит еле успевал за Пантерой.
Они подошли к своей палатке. Навстречу им вышел Луций Нигр.
– Наконец-то! – он недовольно оглядел подошедших.
– Послушай, старина… – начал Пантера.
– Старина? – Луций Нигр побагровел. – А ну, контубернал, доложить как положено!
Желтые глаза Пантеры сузились, вспыхнув.
– Пантера! Это… Командир! – Тит заволновался, почувствовав неладное. – Ну, это… контубернал Пантера и солдат Тит… в общем… закончили обход территории… это… за время дежурства, значит… никаких происшествий…
– Вот так, – медленно протянул Луций Нигр, – а то распустились, понимаешь!
Он важно прошел к палатке, оглянулся.
– Никаких происшествий? – усмехнулся он и скрылся за пологом.
Пантера и Тит переглянулись.
– Раньше мне это просто не нравилось, – сказал задумчиво Пантера, – а теперь мне это активно не нравится.
Луций Нигр снова показался в проеме палатки.
– Солдат Тит и контубернал Пантера, ко мне!
Они вошли в палатку. Луций Нигр ждал их с кувшином в руках.
– Угощение за счет командира, – важно сказал он. – Чаши найдете сами.
– Эмилия Лонгина?
– Нет, берите выше, – маленький опцион приосанился. – Командующего всеми легионами в Сирии и Иудее!
Тит с Пантерой снова переглянулись.
– Ты хочешь сказать… – начал Тит.
– Да, – кивнул Луций Нигр, – он угощает всех, и вас в том числе.
– Нас? – Тит вытаращил глаза.
– Да.
– Тогда почему ты принес три чаши? – неожиданно спросил Пантера.
Луций Нигр медленно переводил взгляд с Пантеры на Тита.
– Ты командир, не спорю, – продолжал Пантера, – но этот кувшин, как ты сам сказал, – наш с Титом. А третья чаша означает, что мы пьем вместе, не так ли, старина?
Луций Нигр снова начал багроветь.
– Не забывай, Пантера, – сказал он наконец, – кто из нас – старший командир, кто – подчиненный солдат, а кто – всего-навсего младший командир, следовательно – такой же подчиненный.
– Пантера, хватит, не заводись! – с досадой сказал Тит, с нетерпением оглядывая кувшин. – Командир, славный наш Луций Нигр, опцион ненаглядный, единственный и неповторимый, – так я налью?
Луций Нигр кивнул, проворчав что-то еще насчет дисциплины, и взял поданную ему Титом чашу.
– Ничего не понимаю, – сказал Тит, берясь за свою чашу, – что тут произошло за время нашего дежурства?
– Так вы действительно ничего не знаете? – Луций Нигр снова повеселел.
– Ничего, клянусь Гекатой!
– Торжественное построение всего легиона! – начал Луций Нигр, выпячивая грудь. – Лучники, пращники, иммуны, кавалерия, пехота… Аквилиферы – вперед! Вынос знамени и ларца с серебряным римским орлом! Ну, – это вам о чем-нибудь говорит?
– Праздник какой? – осторожно спросил Тит.
– Не иначе как наш строгий, но справедливый командующий хочет организовать себе триумф, – Пантера одним махом осушил чашу.
– Э, сначала он объявил, что каждый солдат легиона получает по три золотых сестерция, – продолжал Луций Нигр, – и сам, лично, принял участие в раздаче денег.
– О боги! – жестко усмехнулся Пантера. – Это, Тит, тянет не на триумф, а на скромную овацию22.
– Ты дерзок, Пантера, не только ко мне, но и к командующему, – протянул Луций Нигр, – но я тебя прощаю, контубернал, потому что по его приказу легион получил три дня отдыха.
– Да что же такое случилось, Луций Нигр, ты можешь сказать, наконец? – Пантера отставил чашу и в упор посмотрел на опциона. – К Манам твою таинственность!
Луций Нигр откашлялся и погладил свой нос.
– Божественный Август занял свое место в пантеоне равных себе богов, – торжественно сказал он и выждал приличествующую паузу.
Пантера и Тит ошеломленно молчали.
– Преемником его власти и полномочий, – продолжил Луций Нигр, – сенатом объявлен…
– Германик! – в один голос воскликнули Пантера и Тит.
Луций Нигр досадливо поморщился и поднял руку.
– Да здравствует император Тиберий Цезарь Август! – возгласил он и споро скомандовал: – Тит, налей-ка всем.
Тит потянулся за кувшином. Из-за палаток послышались пьяные крики и визгливый женский смех.
– Неплохо, – сказал Пантера, – неплохо. По кувшину кислятины и три сестерция на брата. Цена хорошего вьючного мула, Нигр? И на три дня лагерь превращен в лупанар23. И все довольны, верно?
– А ты сам чем-то недоволен, Пантера? – вкрадчиво спросил Луций Нигр. – Тем более что тебе полагается четыре с половиной.
– Да нет, почему? – Пантера пожал плечами. – Так где мои законные четыре с половиной сестерция?
– Да, – оживился Тит, – и мои три тоже.
Луций Нигр расплылся в широкой улыбке.
– Я их отнес на покрытие вашего долга, – сказал он, – вы что, забыли?
– Вот и славно, – усмехнулся Пантера, – начинаем новую жизнь, а?
– Да, – важно кивнул Луций Нигр, – потом отдельно собрали всех командиров манипул, центурий и декурий. Как раз про новую жизнь.
– И что? – спросил простодушный Тит.
– Извини, Тит, – захохотал Луций Нигр, – но ты не командуешь даже вьючной клячей в обозе нашего легиона, так что я промолчу.
– Поделись, а то вдруг забудешь, – сказал невзначай Пантера.
– Нет, – Луций Нигр покачал головой и прищурился. – Не забуду. Память у меня хорошая.
– Ну что ж, – сказал Пантера, – за неслыханную щедрость нашего нового императора и за твою отличную память!
И залпом осушил чашу.
* * *
Ты ошибся, Тиберий.
Начинать свое правление с преследования иудеев24 – это ошибка. Крохотная, незаметная, но ошибка. Кто они? Горсть песка в твоей необъятной империи?
И да, и нет.
Кто они?
Отсюда, сверху, хорошо видна суета
на улицах Верхнего города.
Так и есть, по пестроте одежд судя, – богомольная
деревенщина.
Писцы, торговцы, менялы,
тщедушный глава семьи, сопливый мальчонка,
купцы, учетчики. Тысячами нитей они привязаны к громадному колоссу, уходящему за облака, имя которому – Рим.
а она…
Нет, даже это пестрое и безвкусное самарянское одеяние
не скроет этих выдающихся – какое многогранное слово – прелестей. Воистину хороша!
Что будет, если перерезать эти нити?
Первыми это почувствуют твои же приближенные, гордые патриции, величественные сенаторы, родовитые всадники. Привыкшие к роскоши, считающие все блага этого мира своей собственностью, они обжираются этими благами, не утруждая себя их пониманием. Серебро Испании? Пшеница Египта? Изумруды Индии? Рабыни Скифии? Это – не более чем мираж в пустыне Синайской.
Они впервые пришли в Иевус и сдуру отвешивают поклоны уже под окнами моего дома!
А для того, чтобы этот мираж стал реальностью, нужно нечто очень простое и скучное: спрос, предложение, цена, стоимость доставки, выручка, убыток, прибыль…
Пусть этим занимаются твои гордые патриции, Тиберий!
Он представил себе выдающиеся формы и не почувствовал ничего кроме раздражения.
А поскольку никто из них не станет унижать свое достоинство скучными цифрами, к этому привлекут наиболее смышленых из числа рабов.
И это будет началом конца, Тиберий!
Потому что не может существовать империя, управляемая рабами.
Но это будет, к сожалению, не скоро. Империи умирают медленнее, чем люди.
Пока ты просто совершил маленькую ошибку.
А вторая твоя ошибка…
Гаиафа позвонил в маленький серебряный колокольчик. Тут же вошедший служка бесшумно внес поднос с фруктами и засахаренными орешками.
– Стойки ли самаритяне в вере? – спросил Гаиафа, продолжая смотреть с балкона.
Потом внезапно повернулся и уставился на служку немигающими бесцветными глазами.
– Светлейший, – залепетал служка.
– Ступай! – Гаиафа досадливым взмахом отослал его прочь и отщипнул от дымчатой виноградной грозди пару ягод, положил в рот, задумчиво покатал языком, а потом внезапно раздавил и проглотил.
…Вторая твоя ошибка заключается в вере. Да, ты перекраиваешь царства и границы, и столь же неразборчив ты в вероисповедании. Даже твои козлоподобные боги украдены у соседей, Тиберий! У Рима нет своего бога, Тиберий! А это хуже, чем не иметь своей армии. Оглянись вокруг себя. Север – поклонение пням и вкопанным в землю бревнам. Запад – пляски вокруг костра. Юг – боги в обличье шакалов и змей охраняют никому не нужные тайны. Восток… Восток? Парфия, Мидия, Сирия… Что такое Сирия, Тиберий? Один варвар-козлопоклонник договаривается с другим варваром-огнепоклонником.
При этом ты забываешь, Тиберий, что непобедимо племя, хранящее завет Моисеев и веру в Единосущего. И крохотная Иудея, которую не замечают твои высокомерные глаза, подобна занозе в теле твоей империи. Тебе известно, к чему приводит заноза, если ее не заметить? Правильно: с живого тела начинают отваливаться смрадные куски гниющей плоти!
– Светлейший!
Гаиафа резко обернулся. В дверях снова показался служка.
– Тебя хотят видеть, Светлейший.
– Кто? – отрывисто бросил Гаиафа.
– Жена Четверовластника.
– Ирида?!
Гаиафа помедлил.
– Зови. Да, это… Подай вина к фруктам.
Служка с поклоном скрылся. Гаиафа отщипнул еще пару виноградин от грозди.
Что надо этой блуднице из Страбониса? Просить денег на поездку в Рим к своему новому повелителю? Для того, чтобы знать, что творится в их хлеву, называемом дворцом, мне хватает сирийского прихлебателя Рувима. Нет, тут что-то другое…
Она уже входила, и Гаиафа повернулся к ней лицом, скрестив руки на груди.
Она была в короткой, по римской моде, смелого покроя тунике, заколотой у плеча золотой египетской брошью в виде ящерицы. Пышные волосы тщательно уложены в сложное сооружение, украшенное над левым ухом желтой розой. На лице застыла официальная улыбка.
Называть ее – ее – госпожой?!
Он молча указал ей кресло. Она села.
Что-то все-таки было в ней от своего царственного – несмотря ни на что – деда, а особенно темные, цвета горьких армянских огурцов25, слегка навыкате глаза, которые сейчас с любопытством оглядели столик египетской работы, вазу с фруктами, легкие занавесы, скрывающие подходящего к краю балкона, оценили открывающийся отсюда вид города и остановились на Гаиафе. Длинные изогнутые ресницы дрогнули, словно бабочка на миг сложила и снова развернула крылья. Она заговорила тоном светской львицы:
– Оставим церемонии для простолюдинов, Светлейший, у меня немного времени.
Гаиафа молча ждал продолжения.
– Мы собираемся в Рим на чествование Тиберия…
В горьких огурцах заплясали огоньки, как будто к ним поднесли факел.
– … Должна же я увидеть своими глазами эти медленные челюсти!
Гаиафа невольно сжал кулаки.
Святые пророки, и это ничтожество, эта пустоголовая вертихвостка будет приветствовать Тиберия от имени всех колен Израилевых!
Крылья бабочки дрогнули еще раз, явив ему взгляд благонравной послушницы.
– Я подумала и решила, что поступлю правильно, если согласно вере отцов наших явлюсь к тебе для высочайшего благословения и принесу приличествующую случаю благодарственную жертву.
– В таком виде! – не выдержал Гаиафа.
– Однако, Светлейший, и на тебе нет власяницы!
Крылья бабочки снова дрогнули. Теперь на него лукаво смотрела дерзкая девчонка.
Она просто забавляется! Каждый раз, взмахнув своими бесовскими ресницами, она надевает новую маску. Игра, но опасная игра. Берегись.
– Если ты не будешь присутствовать во время жертвоприношения, то жертва от тебя может быть принята, – сухо сказал он.
– Кем, о Гаиафа, – Богом? Или тобой?
Берегись.
И еще раз берегись.
– Согласно Зевахим Кодашим26, жертва благодарения должна быть…
Глаза Ириды неожиданно вспыхнули, ноздри тонко очерченного носа с легкой горбинкой встрепенулись. Гаиафа замолчал.
Воистину внучка Ирода!
– Я знаю Тору, Светлейший! Как-никак, у меня был личный равви. Очень симпатичный, кстати.
Бабочка ее ресниц взмахнула крыльями. На него снова смотрела смиренная послушница.
– Что такое жертва, Светлейший? Как ты ее понимаешь? Объясни мне, в чем ее смысл?
Гаиафа долго смотрел на это лицо с непрерывно меняющимся на нем, словно маска лицедея, выражением.
– Ты хочешь начать новое толкование Писания? – подняв узкую бровь, спросил он.
– Я хочу знать, – продолжала Ирида, – должна ли быть жертва чем-то дорогим для жертвователя, или нет.
– Безусловно – да, – улыбнулся одними губами Гаиафа, – ибо ничего не стоящая жертва не будет считаться жертвой.
– Значит, – Ирида нахмурила свой высокий, бритый по римской моде лоб, – если жертва очень дорога жертвователю…
– …Тогда она будет принята особенно благосклонно, – закончил Гаиафа, отечески кивая головой.
– Хорошо, – Ирида выпрямилась в кресле и хлопнула в ладони.
Вошла прислужница,
В такой же бесстыдной римской тунике!
внесла корзину, прикрытую крышкой, и молча удалилась.
– Вот, – сказала Ирида, и маслины ее глаз стали бездонно-черными, – это – моя благодарственная жертва.
Из корзины донеслось протяжное мяуканье, переходящее в завывание.
Гаиафа молчал, потрясенный.
Вышвырнуть… растоптать… Унизительно! Уничтожить это гнездо порока прямо сейчас… К свиньям поездку к Тиберию!
– Это – моя любимица Пуцци, – весело говорила тем временем Ирида, – мне очень жаль с ней расставаться, Светлейший, так что жертва моя полноценна!
Гаиафа поднял свои бесцветные глаза.
– Ты…
– Да, совсем забыла! – продолжала Ирида. – Я добавляю к моей Пуцци две тысячи талантов на нужды Храма…
Гаиафа молчал.
Две тысячи талантов. Шлюха не стыдится кичиться своим богатством.
– …И две тысячи талантов – тебе, Светлейший, за твое, будем считать, полученное благословение, – закончила Ирида.
Гаиафа молчал.
Потом снова поднял свои глаза. Встретились два взгляда – снулой рыбы и горьких огурцов. Потом запорхала бабочка, и перед ним предстала светская львица.
– Там, у входа, я видела приведенную в твой дом самарянку… – к огурцам снова поднесли факел. – Молода, но полновата… Правда, в вопросах веры это не имеет значения. Изумительный виноград. Откуда такой? Не кармильский ли?
– Нет. Что? – очнулся Гаиафа, беря в руки колокольчик. – Да.
– Значит, не все у нас плохо, не так ли, Светлейший?
Появился молчаливый служка.
– Призови Иоханнана, – отрывисто приказал Гаиафа, взмахом руки отсылая служку прочь.
– Иоханнан? – щебетала Ирида, лакомясь виноградом. – Забавное имя. Такое старомодное, но ужасно привлекательное.
– Иоханнан – самый способный наш молодой священник, – сказал Гаиафа.
Она вытянула узкую, стремительную, словно ручей, ногу, поигрывая свисающей с пальцев греческой сандалией с желтыми – под цвет туники – ремешками. Она заметила, как он украдкой осматривает ее обнаженную до колена ногу. Бабочка вспорхнула еще раз. Она смиренно поставила ноги рядом, сложила руки на коленях.
– Я молю Светлейшего дать мне личного священника во дворец, чтобы наставлять меня и удерживать от кесарийской скверны.
Она встала из кресла, подошла к окну.
Гаиафа вздрогнул и отвел взгляд от ее ног. Наваждение кончилось.
Ты хочешь найти себе новую игрушку для забавы, блудница, одетая как мальчик? Покойный Саб-Бария не всегда следовал истинному учению и порой был упрям, как мул, но никто не мог упрекнуть его в неблагочестии, а сын его задался целью превзойти всех в праведности. Не обломай свои коготки, внучка Ирода!
Снова жалобно и протяжно мяукнула кошка в корзине.
Это мысль. Присутствие преданного служителя Храма может оказаться полезным. Пусть Рувим участвует в попойках Ад-Дифы. С Иоханнаном я буду в курсе всего, что творится в этом скорпионьем гнезде.
– Я думаю, Санхедрин не будет возражать, – сказал Гаиафа.
Служка появился и шагнул в сторону, впуская Иоханнана. Он вошел, склоняясь в поклоне перед могущественным членом Санхедрина и зятем бывшего наси Ганана.
– Светлейший, – раздался за его спиной певучий и слегка насмешливый голос, – если этот мальчик настолько же праведен, насколько красив, устои веры в Страбонисе будут незыблемы.
Иоханнан замер, не поднимая головы.
Потом раздались легкие шаги, и в поле его зрения показались две миниатюрные ножки в сандалиях с желтыми ремешками, взбегающими по точеным лодыжкам.
– Надеюсь, твой праведник не глухонемой, – продолжал тот же голос.
– Сын мой, – сказал Гаиафа нетерпеливо.
Иоханнан выпрямился. Краем глаза он увидел женщину в нездешнем одеянии, с оголенными руками и ногами, с цветком в волосах и… Она…
Она смеялась.
– Он краснеет, Светлейший, он краснеет! Если бы не пушок на его щеках, я приняла бы его за девочку!
– Сын мой, – продолжал Гаиафа, – жена Четверовластника Ад-Дифы приносит жертву благодарения.
Иоханнан задрожал. Румянец на его щеках на глазах сменялся мертвенной бледностью.
Семя Ирода!
– Я хочу, чтобы ты совершил обряд сей, – Гаиафа небрежно указал на корзину.
Снова послышалось мяуканье. Ирида отошла к окну, наблюдая за обоими.
– А затем, после возвращения Четверовластника из Рима, ты станешь духовным наставником его жены.
Глаза Иоханнана сверкнули. Он вскинул голову, потом сдержал себя, медленно перевел дух.
– Я не буду участвовать в святотатстве, – тихо сказал он.
Гаиафа вскинул бровь.
– Я не расслышал тебя, – сказал он удивленно.
– Я не буду участвовать в святотатстве, – повторил Иоханнан.
– Послушай, ты, Чающий Света и сын Чающего Света, – медленно сказал Гаиафа, сдерживая себя, – здесь я решаю, что есть святотатство, а что – нет. И я говорю, что святотатством является ослушание приказа члена Санхедрина!
Иоханнан стоял, стиснув зубы и прикрыв глаза. На бледном лице прыгали желваки.
Вот он – час испытания! Алиллуйя, Господи, я готов!
Иоханнан открыл глаза.
– Я не буду участвовать в святотатстве, – твердо сказал он.
Гаиафа смешался на мгновение. Повисло гнетущее молчание. А потом раздался смех Ириды.
– Прости, Светлейший, но я ценю твое драгоценное время и не смею отвлекать тебя от многотрудных забот, – она, продолжая смеяться, сделала изящный поклон и удалилась.
Тусклые глаза Гаиафы налились свинцовой тяжестью.
Щенок!
Меня!
Перед этой размалеванной шлюхой!
– Ты будешь наказан, – сказал он звенящим от бешенства голосом, хватая колокольчик. – В оковы этого наглеца! – крикнул он. – Десять ударов бичом! Хлеб и вода до Страбониса!
Иоханнана подхватили, заламывая ему руки, и поволокли из комнаты.
– На все воля Господня, – успел прохрипеть он.
Появился служка, приносящий фрукты, приступил к уборке.
– Самарянка, значит? – негромко сказал Гаиафа, подходя к нему.
Служка поднял на него преданные глаза.
И Гаиафа ударил его в лицо, вложив в удар всю свою злость и раздражение.
* * *
Жалко.
Жалко на пороге смерти понимать, что жизнь прожита зря.
Семья? Дом? Добро в нем?
Все это – земные вехи на жизненном пути, не более того.
Вестим ли вехам путь?
Знает ли камень, что в нем заключено, – жертвенник или гроб?
Знает ли железо, кем оно станет, – лемехом плуга или ножом разбойника?
Знает ли дерево, для чего оно срублено, – для колыбели или распятия?
Камень? Железо? Дерево?
Без души все это – прах и тлен.
Жалко душу.
Скрипнули ворота. Во двор вошли Суламитт и Ииссах. Суламитт сразу подошла к лежащему на скамье у очага отцу, Ииссах сел в углу двора на корточки, опираясь о стену.
– Как ты, отец?
Иошаат помолчал. Что тут скажешь? Он протянул дрожащую старческую руку, чтобы погладить дочь.
Из дома вышел Осий.
– Пришли?
– А где остальные? – спросил Ииссах из глубины двора.
– Мать с Хаддахом пошли в горы за целебными травами для отца, – сказала Суламитт и после паузы добавила: – Встретить бы их – устали, поди…
– Ох, и набегался я за день за овцами, – сказал Ииссах, потягиваясь и зевая.
И встретил недоумевающий взгляд Осия.
– Ииссах… Овец пригнал я!
– Мы оба набегались, – согласился Ииссах, выдерживая взгляд.
Осий опустил голову.
– Овечка оказалась резвая, – сказала Суламитт в сторону, поджав губы.
– Это была не овечка, – сказал Ииссах, добродушно улыбаясь.
Суламитт посмотрела на него.
– Бодливая козочка, – закончил Ииссах, все так же улыбаясь.
– Схожу за ними, – Суламитт порывисто поднялась с места.
– А кто нас накормит? – спросил Ииссах.
– Иди, сестра, – быстро сказал Осий, – я управлюсь.
Иошаат чуть слышно застонал.
– Что с тобой, отец? – Суламитт снова склонилась над ним.
Иошаат молчал, часто моргая, чтобы скрыть предательскую слезу.
Накрывать на стол – занятие ли для мужчины, его сына?
А уходить под вечер в горы на поиски родных – занятие ли для слабой женщины, его дочери?
Он снова застонал.
Когда это началось?
Где, в каком месте ровный, гладкий, поющий под инструментом брус моей судьбы, который я обстругивал собственными руками, перешел в перевитый, в сучках и узлах, дуплистый обрубок?
Когда я шел в Иевус, собирая последние силы, не ведая того позора и унижения, что меня ожидают в Храме?
Раньше, раньше!
Когда был распят Галилеянин на поспешно сделанном кресте, а здесь, в том же самом углу у стены, жалобно блеяла беленькая овечка?
Раньше, раньше!
Когда я холодел под взглядом члена Санхедрина с глазами снулой рыбы?
Раньше, раньше!
Когда Мириам лишилась чувств во время жертвоприношения при обрезании младенца? О Исаия, о Иезекииль, ведь я тогда уже знал, что у нас поселилась беда!
Так когда…
Ведь я…
О Адонай, своими собственными руками…
– Отец, отец! – Суламитт заплакала.
– Он оглох от старости и не слышит тебя, – сказал Ииссах.
Голова Иошаата дернулась, по телу прошла судорога, и он медленно и страшно поднялся со скамьи. Поискал палку и, не найдя, встал, сжимая и разжимая ладони. Перед глазами качалась багровая пелена, в ней выл ветер, кружа пыль и пепел. Он постоял, слепо, не мигая глядя перед собой, и пошел на голос. Его голос.
– Это – не ты! Не ты! – прохрипел Иошаат. – Сын не своей матери!
Осий и Суламитт подошли к отцу с двух сторон.
– Светленький, светленький! Хорошенький такой! – выкрикивал Иошаат, дрожа всем телом. – Красивый, как девочка.
– Отец! – Суламитт в страхе обняла Иошаата.
– Уберите от меня этого безумца! – крикнул Ииссах.
Он вжался спиной в глиняную стену двора, ощерившись и выставив перед собой руки, словно защищаясь от бессвязных слов.
Суламитт и Осий вдвоем остановили Иошаата и повернули его обратно к скамье. Он все порывался сказать еще что-то, но в горле его клокотало.
Ииссах оглянулся, тяжело дыша, как после бега. Взгляд его остановился на старой, рассохшейся колыбели. Он в сердцах пнул ветхое рукоделие, обращая его в обломки.
Иошаат остановился, качнувшись, как от удара, хватая воздух скрюченными пальцами.
– Про… кли… иии… ааа… – он мычал, силясь сдвинуть с места застрявший во рту камнем холодный язык.
И повалился на скамью.
Ииссах зорко оглядел всех. Суламитт рыдала, поднося ко рту отца питье и поддерживая его за голову. Осий хотел что-то сказать, но, встретив неподвижный взгляд Ииссаха, осекся, губы его задрожали, и он опустил голову.
– Вот и поужинали, – сказал Ииссах, отделяясь от стены.
И, гибкий, как хлыст, ушел наверх, в олею.
* * *
Тяжелый сыромятный бич со свистом рассек воздух, опускаясь на плечи привязанного к скамье Иоханнана. Голос служки, ведущего счет ударам, дрогнул. Не часто наказывают бичом служителей Храма!
– Раз.
Земля! Не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему27.
По спине наискосок вспухла чудовищная красная полоса.
Молчал Иоханнан, но плоть трепетала, познав объятие коварного бича.
– Два.
О, если бы верно взвешены были вопли мои,
и вместе с ними положили на весы страдание мое!
Крестом по спине легла вторая полоса.
Молчал Иоханнан, но безмерно удивлялся – почему вокруг не оглохли от его крика?
– Три.
Ибо стрелы Вседержителя во мне; яд их пьет дух мой;
ужасы Божии ополчились против меня.
Молчал Иоханнан, и плакал, беззвучно глотая слезы, служка, ведущий счет, ибо впервые увидел, как слаба и беззащитна плоть человеческая.
Что за сила у меня, чтобы надеяться мне?
и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою?
Молчал Иоханнан, потому что унижение и стыд оказались сильнее боли.
– Четыре.
Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня,
доколе не дашь мне проглотить слюну мою?
Молчал Иоханнан, потому что гнев оказался сильнее унижения.
– Пять.
Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель извращает правду?
Молчал Иоханнан, силясь не потерять сверкнувшую мысль среди расползающихся лохмотьев своей плоти, как драгоценную жемчужину – среди кучи отбросов и хлама.
– Шесть.
Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он закрывает.
Если не Он, то кто же?
Молчал Иоханнан, только мерцали белки безумно вывернутых глаз, как будто он смотрел в себя самого.
– Семь.
Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться;
я желал бы только отстоять пути мои пред лицем Его!
Молчал Иоханнан, только стекала по подбородку кровь закушенной губы, словно берег некое, ведомое только ему, заветное слово и страшнее всего для него было лишиться его через свои уста.
– Восемь.
А я знаю, Искупитель мой жив,
и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию;
И я во плоти моей узрю Бога.
Молчал Иоханнан, охваченный неистовыми языками горнего пламени, не чувствуя тела, как будто самое тело его стало потоком бесплотного света.
– Девять.
Я узрю Его сам;
мои глаза, не глаза другого, увидят Его.
Истаивает сердце мое в груди моей!
Молчал Иоханнан, и плакал, глотая беззвучные слезы, служка, ведущий счет, ибо своими глазами увидел победу духа над плотью.
– Десять.
И отложили насытившийся бич, и отвязали Иоханнана от скамьи. Потом подняли веки, исследуя закатившиеся в себя глаза, и окатили водой, мешая вместе кровь, слезы и блевотину, и подняли ему голову, чтобы удостовериться – жив ли.
И тогда Иоханнан разлепил онемевшие губы и заворочал во рту распухший кровоточащий язык.
Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды,
и знайте, что есть суд.
Смеялись, дивясь безумцу.
* * *
Ай вай плакала матерь когда сын ее занозил себе руку у-у-у плохое дерево побьем его побьем смеялся отец шалом кричал он будет сын мой древоделом хорошее дерево ласки требует что вы вышли на горку солнце давно село а небо светиться чудно Иошаат Иошаат здесь мы за тобой пришли Иошаат слышали вы нет ничего мы не слышали радуйтесь сын нам дан туги уши наши стали не разобрать что ты кричишь сын вот же он спеленут глаза наши не светят от старости не видать что там у тебя заладили вот же сверток у меня на руках руки мои руки куда ваша сила подевалась не поднять ай-вай плакала матерь тутовое дерево натрудился Иошаат дай воздуху рукам э-э кричал отец хмурясь труд человека проклятие его Иошаат проклятие твое Иошаат в твоих руках плачьте сыны Израиля сыны человеческие ибо прокляты вы своими собственными руками рученьки мои рученьки рыбьи глаза страшно страшно страшно не надо нам рыбы Иошаат иди же мы ждем о матерь моя утешь меня грешен я проси о том отца своего о отец мой утешь меня словом вещим хорошо сын мой маленьким ты любил притчи вот тебе в уши притча у Возлюбленного Моего громче не слышу был виноградник на вершине утучненной горы и виноградник говорю я Он обнес его оградою и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы насадил не слышу и построил башню посреди его и выкопал в нем точило и ожидал что он принесет добрые грозды а он принес дикие ягоды28 непосильна твоя притча отец разумению моему не тяжелее содеянного твоими собственными руками иди Иошаат отдохни измученной душой небо над вами небо ли голос твой матерь твой ли голос отец мой отец ли ты мне свет свет свет заливает меня иди Иошаат мы ждем куда мне идти кто я что есть свет что есть камень что есть дерево опять он о дереве ты не древодел по имени Иошаат ты иошаат по имени Древодел жизнь есть тайна и тайна сия заключена в дереве ты славно поешь Иошаат словно Давид-псалмопевец дерево да заключена в дереве ибо в начале жизни у младенца колыбель у черненького и светленького едино а в конце жизни кто скажет у кого из них трон из позолоченного дерева а у кого крест из занозистого грешен я грешен все грешны Иошаат человек приходит грешно в этот мир греха и грешно оставляет его тогда пуст позолоченный трон царя Давида ай-вай разбита колыбель остался крест мой крест ибо каждого из нас ожидает свой крест плакала матерь потоками дождевыми гневался отец громом заоблачным заждались тебя Иошаат разве не получил ты знамения Господня воистину получил и иду к кресту своему ибо знамение мое крест
* * *
Положи меня, как печать, на сердце твое,
как перстень, на руку твою:
ибо крепка, как смерть, любовь,
люта, как преисподняя, ревность,
стрелы ее – стрелы огненные; она – пламень весьма сильный29.
– Ииссах, возлюбленный мой!
– М-м-м…
– Ты спишь, Ииссах?
– Глаза слипаются.
– Ой какая родинка у тебя на плече… Словно примета.
– Не трогай.
– Ты приметный мой!
– Щекотно.
– Единственный мой, любовь моя, звезда осиянная…
– Звезда? А слышала ли ты про звезду над Бет-Лехемом, сияющую звезду?
– Люди что-то говорили. А что?
– Как что? Я родился в Бет-Лехеме. Звезда та сияла надо мной!
– Ой, да, я забыла, тебе повинуются птицы.
– Птицы! Подожди, – мне будут повиноваться люди! Да. Не веришь? Это так просто. Люди – они глупее птиц.
– Ииссах…
– Ты мне не веришь?
– Что ты, – конечно, верю! Ииссах…
– Ну что тебе?
– Ты меня любишь?
– Мирра, ты меня уже сто раз об этом спрашиваешь.
– Ну и что?
– Как что? Устал я.
– Ты… ты не любишь меня.
– Это ты говоришь.
– Ну скажи, скажи!
– Вот, говорю.
– А почему ты при этом плечами вот так поводишь?
– Волосы твои щекотные.
– Ииссах…
– Мирра, ты что, плачешь?
– Ииссах!
– Ты что, не кричи так!
– Я верю тебе, Ииссах, родненький мой, жизнь моя, что ты – Мессия, Ииссах, что явился долгожданный Спаситель, Ииссах, ты мой долгожданный, будь моим Спасителем, Ииссах, спаси меня от грязи и унижений, от слез о хлебе насущном и последней монете, от темного прошлого, отравляющего память, от мрачного настоящего, иссушающего мысли бессонными ночами, и от беспросветного будущего, душащего сердце! Будь моим Спасителем, ты – все, что есть у меня, Ииссах, ты – вся моя жизнь, Ииссах, будь моим Спасителем, заклинаю тебя, и я воскликну в счастье на весь мир: воистину Господи, мой Боже, осанна Тебе во веки веков!
Мирра замолчала, задыхаясь от слез.
Ииссах повернул голову. Прислушался. Потом открыл рот, чтобы что-то сказать, и снова прислушался.
– Кто-то бежит сюда.
Мирра поспешно осмотрела себя, вздохнула о порванном платьице.
Он уйдет, а я дождусь темноты. Стыдно такой попасться на глаза людям.
– Ииссах! – послышался полукрик-полустон.
У скалы показалась Суламитт, изнемогая от усталости, слез и отчаяния.
– Ииссах, – сказала она, – умер твой отец.
Ииссах вскочил, задрожав и оскалив зубы.
– Отец? – спросил он.
– Это ваш отец, – сказал он.
– У меня нет отца! – крикнул он.
– Ииссах, Господь над нами да рассудит тебя, только пойдем домой, заклинаю тебя, – прошептала Суламитт помертвевшими губами.
– Дом? – Ииссах зло рассмеялся. – Это ваш дом. У меня нет дома.
Он короткими звериными прыжками взобрался на скалу и встал там во весь рост, раскинув руки, багровый в лучах заходящего солнца.
– Эге-гей! – захохотал он. – Вот мой дом! Я свободен!
И спрыгнул по ту сторону скалы.
Он продирался сквозь кусты, ломая ветви и не чувствуя их нежелания умирать. И когда кусты оставили его, начался пологий подъем в гору. Жажда движения не оставляла его, лицо горело. Мышцы заработали в едином ритме, толкая тело на вершину Фавора, мозолистые подошвы ног отшвыривали вниз камни и песок.
На вершине он остановился, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди.
Небо чернело над ним.
– Отец? – крикнул он, все еще споря. – Кто мой отец?
Что-то тихо пророкотало в отдалении. Ииссах поднял голову, оглядываясь.
Наверное, это череда мелких камешков, незримо осыпаясь, вызвала движение большого валуна с горы.
* * *
Две девушки сидели у скалы, обнявшись, и плакали.
Плакали самозабвенно, как плачут, когда горе в душе поднимается так высоко, что сносит шаткие преграды сознания, и накопившаяся боль изливается свободным и широким потоком.
Слезы их были одинаково солоны и, щека к щеке, представляли одно целое для равнодушных созвездий над их головами.
Но каждая из них оплакивала свое.
21
Десятиградие – область в полуколене Манассином, на восточном берегу Ередана, где селились в основном иностранцы.
22
При триумфе награжденный вступал в город, стоя на боевой колеснице, с лавровым венком на голове, а при овации – пешком, в общем строю.
23
Лупанар (лат.) – публичный дом.
24
Имеется в виду эдикт, согласно которому евреям запрещалось селиться в Риме.
25
Так в древности назывались баклажаны, считавшиеся лекарственными, но не пригодными в пищу.
26
Зевахим Кодашим – раздел Торы, регламентирующий жертвоприношения.
27
Здесь и далее – Иов, 6—19.
28
Ис., 5, 1, 2.
29
Песнь песней, 8, 6.