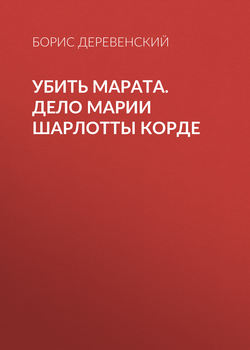Читать книгу Убить Марата. Дело Марии Шарлотты Корде - Борис Георгиевич Деревенский, Борис Деревенский, Б. Г. Деревенский - Страница 11
9 июля, вторник
Большая Обитель. 7 часов утра
ОглавлениеЖанна д'Арк выехала спасать Францию верхом на коне, Мария Корде для той же цели решила воспользоваться дилижансом. Но если крестьянка Жанна пустилась в путь без гроша в кармане, то дворянка Корде взяла в дорогу пятьсот ливров металлической монетой и две тысячи триста ливров ассигнатами[28], а также запаслась приличным гардеробом: двумя платьями, тремя рубашками, юбками, чепцами, косынками и сменой нижнего белья. Ещё в воскресенье, сразу же после парада, едва расставшись с Розой Фужеро, она упаковала дорожный саквояж и принесла его в бюро дилижансов. Ей сказали, что проезд до Парижа стоит пятьдесят ливров серебром, по шестнадцати су за льё, и что экипаж отправляется по вторникам, четвергам и субботам. Теперь как раз был вторник.
День выдался ясный и безоблачный, как и все предыдущие. В половине восьмого утра уже блистало яркое солнце. «Ранний завтрак» прошёл в безмолвии. Поднявшаяся после бессонной ночи хозяйка Большой Обители натужно кряхтела и ни с кем не желала общаться. Её красные опухшие глаза словно бы не видели сидящую напротив Марию. Напрасно кухарка уговаривала госпожу съесть сладкий творог и печенье; она испила лишь одну чашечку кофе с молоком, тяжело поднялась и объявила, что идёт одеваться к обедне. «Дорогая кузина! – обратилась к ней Мария в самое последнее мгновение. – Простите меня, я вновь воспользовалась вашим саквояжем. Мой всё ещё в починке». Бретвиль наморщила лоб, пытаясь вспомнить, о каком таком саквояже идёт речь (сама она уже целую вечность никуда не выезжала), но, так и не вспомнив, махнула рукой.
Марии хотелось покинуть Кан незаметно, чтобы свидетелей её отъезда было как можно меньше. Последние дни она вела себя с предельной осмотрительностью. Встречаясь с подругами и бывая в гостях, она всячески избегала разговоров о своих планах на ближайшее время. Если с ней о чём-то договаривались и куда-то приглашали, она только пожимала плечами, а когда и этого нельзя было сделать, давала уклончивые ответы. Подруги сочли это за рассеянность и оставили её в покое. Те из них, которые знали её получше, вспомнили, что на неё и раньше находило нечто подобное. В такие минуты лучше было не раздражать её назойливыми расспросами. Впрочем, никто не подметил в поведении Марии чего-то необычного; она была как всегда сдержанно-приветлива и немногословна.
Конечно, через день или два друзья заметят её отсутствие и придут справиться о ней в Большую Обитель. Кузина скажет им то, что знает: Мария отправилась в гости к отцу с какой-то подругой. Такое известие не должно вызвать особенного беспокойства.
Хорошо, что Мария не назвала имя своей подруги, с которой она будто бы собирается ехать в гости к отцу. Будь хозяйка понастойчивее и потребуй назвать имя спутницы, Мария была бы поставлена в очень щекотливое положение. Назвать какую-либо из своих подруг, знакомых мадам Бретвиль, нельзя было без риска оказаться разоблачённой на другой же день, когда эта подруга придёт в Большую Обитель справляться о пропавшей Марии. Разумеется, о том, чтобы сказать кузине правду, что она едет одна, вообще не могло быть речи: совершенно ясно, как отреагировала бы на это владелица Большой Обители, воспитанная на дореволюционных нравах и понятиях. Помимо бурной сцены, устроенной Марии, на другой же день мадам Бретвиль оповестила бы своих подруг о недопустимом и прямо-таки бесстыдном поведении проживающей у неё девицы из почтенной дворянской семьи, а те старушки в свою очередь принялись бы судачить об этом на всех перекрёстках.
Это там, в столице, в этом ужасном Вавилоне за четыре года утратили уже всякую нравственность. Провинцию так быстро не поколебать. Особенно в таких щепетильных вопросах. Незамужняя девица, находящаяся в незнакомом обществе (а салон дилижанса является именно таковым), должна иметь покровителя или сопровождающего, – так было испокон веков. Прежде всего это должен быть защитник; в идеале – взрослый мужчина-родственник, слуга; затем служанка; допустима также замужняя родственница или, на худой конец, знакомая мадам. Когда в апреле Мария ездила в Аржан-тан, её сопровождала модистка мадам Бретвиль по фамилии Корню. Ещё раньше, чтобы навестить Розу Фужеро, проживавшую в Байё, Марии пришлось присоединиться к едущей туда по делам мадам Бомон. До сего дня, в сущности, Мария не нарушала неписаных правил приличия. Но теперь был слишком необычный исключительный случай. Впервые в жизни она тщательно скрывала от окружающих свой истинный маршрут и истинную цель своего путешествия. Теперь ей надлежало полагаться только на самоё себя.
* * *
К десяти часам утра все сборы закончились. Комната в Большой Обители оставлялась такой же, какой была в тот день, когда Мария впервые переступила её порог, – столь же нежилой, пустынной и тёмной: ничего, что напоминало бы о постоялице, прожившей в ней два долгих года. Все её вещи, не нужные ей в пути, включая книги, были снесены в тёмный чулан. В руках у путешественницы были лишь бумажный веер и небольшая сафьяновая сумочка, в которой лежали брошюры, приготовленные для депутата Дюперре[29], а также рекомендательное письмо Барбару. Немного подумав, Мария положила в сумочку и свои альбомы; чтобы они поместились, их пришлось свернуть трубочкой. Теперь, кажется, всё. Можно идти.
Нет, не всё. Надо проститься с отцом и младшей сестрой Жаклин. Они в Аржантане и ведать не ведают, куда она собралась. Весною, проведя в отцовском доме полмесяца, она обещала вновь приехать в августе, на день святого Жюстина. Они, наверное, ждут её к началу сенокоса.
Мария подобрала какой-то пустой листок и присела на подоконнике, где было больше света. Совсем небольшое письмецо, необходимая дань родственным узам. Хотя она покинула родительский кров и жила самостоятельно, она всё же оставалась под отцовской опекой. Отец всё ещё содержал незамужнюю дочь, регулярно посылая ей долю из своих отнюдь не великих доходов. В прежние времена она должна была испросить его согласия, прежде чем решиться на какой-либо важный шаг. Но теперь времена другие. Родительская власть над взрослыми сыновьями и дочерьми отринута как пережиток старого режима. Только в каких-нибудь глухих деревнях отцы ещё секут своих великовозрастных отпрысков за непослушание.
Шесть лет, проведённых Марией в пансионе при монастыре Аббе-о-Дам, и два года в Кане совсем отдалили её от родителя. Правда, после закрытия монастыря она хотела было поселиться в родовом поместье, но увидела, что никто её там не ждал, и лишний рот отцу вовсе не нужен; он и так едва сводил концы с концами. Вдобавок ко всему они разошлись в политических взглядах. Наивный роялист-прожектёр, печатавший некогда в «Записках аржантанского Собрания» статьи об идеальной, то есть о конституционной монархии, мсье Корде д'Армон не мог найти общего языка со своей дочерью, охваченной новыми идеями. К тому же годы брали своё. Отец быстро старел и превращался в скаредного, ворчливого, брюзжащего затворника, озлобленного уже не столько на Революцию, сколько на весь белый свет. Сложив с себя муниципальную должность, он перестал выходить в общество и всё накопившееся у него раздражение от происходящего вокруг изливал на ближайшее окружение: на слуг и работников по хозяйству. Им доставалось по первое число.
А с приездом Марии у мсье Корде появился дополнительный раздражитель. Сама острая на язычок, дочь не давала отцу никакого спуску. Почти каждый их разговор, касался ли он событий в стране или просто посевной, заканчивался шумной перебранкой. Скоро стало ясно, что вместе им не ужиться. Вопрос был лишь в том, куда уехать Марии. После некоторых раздумий она выбрала Кан, который успела хорошо изучить, ибо монастырь Аббе-о-Дам почти примыкал к городу. По просьбе Марии её дядя, бывший аббатом в Аржантане, написал рекомендательное письмо к их дальней родственнице, мадам Бретвиль, прося приютить у себя его племянницу. С этим письмом на руках Мария и отправилась в Кан. С тех пор, когда она время от времени навещала отца, они оба старались держаться как можно любезнее и радушнее, хотя туча меж ними не рассеивалась.
Жаклин оказалась отцу ближе. Она-то осталась в родительском имении, хотя так же, как и Мария, провела в пансионе шесть лет и вместе с ней вернулась в родные пенаты. Уступчивая и покладистая, она подладилась к отцовскому характеру и нашла себе место в его ветшающем хозяйстве. Вопрос о переселении её куда-нибудь подальше не возникал. Наведываясь к отцу, Мария находила сестру вполне освоившейся хозяйкой усадьбы, принимающей гостей, распоряжающейся на кухне, ведающей домашним гардеробом и даже выговаривающей за что-то своему родителю. К удивлению Марии этот «своенравный деспот» и «невозможный в общении человек» сделался сильно зависим от младшей дочери, без которой теперь не мог ступить и шагу. Никогда не ругавшаяся с отцом Жаклин постепенно возымела на него такое влияние, о котором Мария могла только мечтать.
Впрочем, и отец вскоре вынужден был покинуть своё поместье. После того, как оба его сына эмигрировали, он попал у местных патриотов в чёрный список. 12 мая 92-го года к нему в имение явились комиссары местной Коммуны; он велел не открывать ворота; те стали стучать и грозиться; он выстрелил из ружья, и тогда комиссары ринулись на штурм усадьбы. Неизвестно, чем бы всё это закончилось («мятежного аристократа» вполне могли убить), если бы отца решительно не защитила Жаклин. Она отобрала у него ружьё, а ворвавшимся в дом комиссарам объяснила, что старик не в себе, не ведает, что творит, и что она давно уже собирается показать его врачам. Комиссары ещё долго рассыпались угрозами, пытались учинить допрос «отъявленному феодалу и отцу эмигрантов», но, наконец, получив от Жаклин щедрые подарки, ворча, удалились.
После этого случая стало ясно, что оставаться в родовом поместье опасно. Жаклин предлагала последовать примеру Марии и переселиться в Кан, к мадам Бретвиль, но отец предпочёл Аржантан, где у него был брат-аббат, который и помог им снять дом на улице Бигель. В последний раз Мария приезжала именно туда.
Итак, письмо было готово. Всего десяток строк – только самое существенное, самое необходимое:
Я должна быть вам послушной, дорогой мой папá, а я всё-таки уезжаю без вашего разрешения; уезжаю, не повидавшись с вами, потому что мне было бы слишком грустно. Я уезжаю в Англию, так как во Франции долгое время не будет ни спокойствия, ни счастья. Перед отъездом я отнесу письмо на почту, и когда вы его получите, меня уже не будет в этой стране. Небо лишает нас счастья жить вместе, как оно лишило нас и многого другого. Быть может, оно будет благосклоннее к нашему Отечеству. Прощайте, мой дорогой папá, поцелуйте за меня мою сестру и не забывайте меня.
9 июля. Корде
По скрипучей деревянной лестнице Мария спустилась на нижний этаж и открыла маленькую дверцу, ведущую во внутренний дворик. В её планы входило удалиться этим запасным ходом, а не проходить по длинному коридору мимо покоев мадам Бретвиль. На ней было прогулочное платье из полосатого канифаса и жёлтая батистовая косынка, собранная у талии под пояс и завязанная на спине узлом. На руках белые перчатки, через локоть перекинута сафьяновая сумочка. Высокий нормандский чепец с длинными кружевными оборками, закрывающими лицо почти до половины, позволял узнать её только с очень близкого расстояния.
Всё же незаметно уйти ей не удалось. На улице Сен-Жан, по выходе из дома её увидел соседский мальчишка, сын столяра Люнеля. Он спрыгнул с подоконника и громко заголосил: «Мари, Мари, куда ты идёшь? Ты идёшь рисовать?» – «Нет, Луи, я уезжаю», – ответила она с грустной улыбкой. «Уезжаешь?! – обеспокоился девятилетний подросток, почувствовав в её голосе трагическую нотку. – А когда вернёшься?» – «Через некоторое время…» Весёлость младшего Люнеля как рукой сняло. Дети подчас проницательнее взрослых; иногда кажется, что они обладают каким-то особым чутьём. Подчиняясь порыву, Луи подбежал к Марии и крепко обнял её за талию. Она и не ожидала, что этот маленький упрямец и задира, которого она вечно отчитывала за какие-нибудь безобразия, был так привязан к ней.
– Ты что, Луи? Пусти меня, пусти!
– Ты не вернёшься, ты не вернёшься… – всхлипывая, повторял он, не размыкая рук.
В сердце Марии что-то ёкнуло:
– С чего это ты взял, глупыш? Почему я не вернусь?
– Не уезжай! – простонал он, едва сдерживая плач.
Она мягко развела его руки, присела перед ним на корточки и ласково потрепала его рыжие кудри: «Не беспокойся обо мне, мой друг. Вот, возьми. Это тебе от меня на память». И протянула ему два альбома со своими рисунками. Глаза Люнеля засверкали: сколько раз он тщетно стучался в её комнату, чтобы посмотреть, как она рисует; сколько раз он догонял её на прогулках, когда она шла с альбомом и красками! А тут вдруг это доселе недоступное ему сокровище оказывается в его руках. Мальчик мигом забыл о своих страхах; он был счастлив.
– Теперь мне пора, – сказала она. – Не провожай меня. Давай поцелуемся на прощание.
Луи неловко чмокнул её в щеку, а она в ответ дотронулась губами до его чела. Вот и простились.
Пошёл уже одиннадцатый час и следовало бы поторопиться на дилижанс. И всё же, отойдя на несколько шагов, Мария не удержалась, чтобы не обернуться и не спросить осчастливленного мальчишку, с увлечением листающего альбомы:
– Скажи, Луи, ты будешь помнить меня?
– Буду! – крикнул он, помахав ей рукой.
Из «Исторического эссе о Шарлотте Корде» Луи Дюбуа (1838 г.)
Это было в конце июня 1793, когда я встретил мадемуазель Корде в Кане, у мсье Левека, президента директории департамента… Я тотчас же отметил в мадемуазель Корде благородную внешность и в то же время немалую привлекательность. Её рост был чуть выше среднего и мог даже восприниматься как высокий; в её телосложении проявлялись классические пропорции. Молодая, свежая, волнующе красивая, грациозная, скромная по своей природе, она скрывала за оттенком меланхолии необычайный блеск своих глаз.
Из «Воспоминаний о нормандском восстании 1793 г.» Фредерика Вольтье[30] (1858 г.)
Я тогда проживал у своих родителей, в доме налево от церкви Сен-Жан, напротив отеля «Фодуа». Сотни раз мне случалось видеть её в окне, либо встречаться с ней около её дома. Но ни разу мне не выпал случай заговорить ни с нею, ни с кем-нибудь из её общества.
М-ль Корде была красива, но всё же менее, чем утверждают, и чем это передают её так называемые портреты. Её черты были несколько резковаты. То, что меня поражало в ней главным образом, это выражение её лица, в котором спокойствие и достоинство сочетались с озабоченностью и грустью.
28
До того, как Наполеон ввёл франки и сантимы с чётким соотношением 1:100, денежная система Франции была довольно громоздкой. 1 луидор = 4 экю = 24 ливра = 480 су = 960 денье. Введение в оборот во время Революции постоянно падающих в цене бумажных денег – ассигнатов ещё более усложнило ситуацию. К июлю 1793 г. ассигнаты обесценились на 75–80 %.
29
Несколько странно, почему Мария не побоялась взять с собою эти брошюры, когда накануне уничтожила все хранящиеся у неё бриссотинские документы. Ответ может быть только один: эти брошюры находились у неё на особом счету. Вместе с рекомендательным письмом они составляли посылку, которую она должна доставить по назначению, невзирая на опасность. Со стороны Барбару, конечно, было не очень осмотрительно снабжать её такого рода литературой.
30
Вольтье (Vaultier) Мари Франсуа (1772–1843) родился и вырос в Кане, в 1793 г. был секретарём секции Свободы в этом городе. В дальнейшем профессор литературы в университете Кана. На склоне лет написал мемуары, в которых отдельную главу посвятил своей знаменитой землячке.