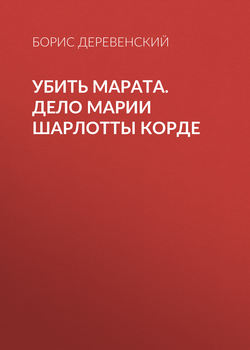Читать книгу Убить Марата. Дело Марии Шарлотты Корде - Борис Георгиевич Деревенский, Борис Деревенский, Б. Г. Деревенский - Страница 5
7 июля 1793 г., воскресенье
ОглавлениеПятый год Свободы… Ослепительное солнце сияло над Каном, щедро заливая светом его небольшие улицы, узкие переулки и крохотные дворики. Прошедший военный парад понемногу перерастал в общегородское празднество и народное гулянье. Были открыты все кабачки и закусочные, отовсюду неслись смех и веселье. Мужчины и женщины, взявшись за руки, отплясывали карманьолу. Давно уже Кан не испытывал такого приподнятого настроения. Сказать по правде, город привёл себя в более или менее благопристойный вид только с появлением парижских гостей. Шестнадцать членов Национального Конвента, хотя и беглых, – в заштатном городке это было совершенно небывалым событием (впору открывать маленький Конвент) – заставили канцев позабыть о своих внутренних склоках и почувствовать себя ответственными за судьбу всей страны. До приезда депутатов тут творилось бог весть что. Если рассказывать всё по порядку, получится история не менее бурная и не менее драматичная, чем громкие события в Париже.
Поначалу разбуянилась деревенская округа. Хотя нападения на помещичьи амбары и усадьбы происходили и раньше, но делали это не столько крестьяне, сколько бродячие шайки, внезапно выскакивающие из леса и скрывающиеся в нём вместе с награбленным добром. Теперь же к ним всё чаще стали присоединяться местные жители, деревенская голытьба, всякие оборванцы, гуё[12]. Помещики яростно защищали своё имущество, и тогда их стали резать, а усадьбы жечь, – сперва как бы случайно, в пылу возмущения, а затем всё более целенаправленно и ожесточённо. Помещики бросали имения и вместе с семьями спасались в городах. За год с небольшим в Кан переселилось от трёхсот до четырёхсот дворянских семей, либо купивших жильё, либо разместившихся у своих родственников.
Впрочем, в городе тоже становилось неспокойно. В питейных заведениях собирались местные санкюлоты (в Нормандии их называли каработами), зрело недовольство, раздавались угрозы, и можно было не сомневаться, что рано или поздно бунтари перейдут от слов к делу. Расправы начались уже летом 89-го года. Хлеботорговец Пажоль был обвинён в том, что скупал повсюду хлеб и уничтожал его, чтобы обречь людей на голод. Сбежавшаяся голытьба взломала замки и обшарила амбары Пажоля в поисках горелого зерна, а его самого потащила на суд в муниципалитет. Два бравых каработа тянули верёвку, привязанную к шее перепуганного торговца, а бегущая справа и слева толпа награждала вредителя тумаками.
Счастливый господин Пажоль! – он отделался шестью месяцами тюрьмы и конфискацией имущества. В других городах богачей просто вешали. В Ренне при стечении народа на площади был забит до смерти майор королевской пехоты Бельзунс, дальний родственник настоятельницы монастыря Аббе-о-Дам, при котором воспитывалась Мария. Его тело разрубили на части, после чего реннские женщины, подёнщицы и прачки, насадили эти куски на веретена и торжественно носили по городу. «Женщины во сто крат более жестоки в своих ужасных увлечениях», – писал с горечью Бомарше, автор «Женитьбы Фигаро», после того, как к нему в дом, в Париже, нагрянула с обыском толпа революционных фурий, и он едва спасся чёрным ходом.
Итак, 89-й и 90-й года стали в Нормандии едва ли не самыми кровавыми. Революция ещё толком не вступила в провинцию, а жертвы её исчислялись уже сотнями. К своему счастью Мария Корде не застала этого всплеска насилия, поскольку до февраля 91-го года оставалась жить в пансионе при монастыре; затем, после его закрытия, провела некоторое время в отцовском поместье и появилась в Кане лишь в июне того года. Обо всех этих стихийных расправах она знала лишь понаслышке, по рассказам подруг и знакомых, и искренно разделяла их возмущение. Ей было очень обидно, что великие идеи Руссо и Рейналя о всеобщем равенстве и братстве так безбожно извращаются тёмными, необразованными и сомнительными личностями, которым почему-то всегда достаются первые роли в народном движении.
Революция вступила в Кан в виде трёхцветных знамён, красных фригийских колпаков, патриотических лозунгов и вороха хлёстких брошюр. Слово «аристократ» стало синонимом слову «кровопийца». Городской муниципалитет объявил себя Домом Коммуны, городская милиция – Национальной гвардией, а всё мужское население было приведено к присяге на верность Конституции. Город разбили на пять секций: Свободы, Гражданственности, Стойкости, Равенства и Единства. Почти все улицы были переименованы: улица Сен-Пьер стала улицей Революции, Темничная улица – улицей Свободной Нации, а улица Сен-Жан, на которой проживала Мария, сделалась улицей Равенства. На Королевской площади сбросили статую Людовика XV и посадили Древо Свободы, перед собором Сен-Пьер соорудили Алтарь Отечества, а в каждом учреждении установили бюсты Катона и Брута (позже к ним присоединился бюст Лепелетье).
В конфискованной церкви Сен-Жюльен открылось Общество друзей Конституции, иначе говоря, местный Якобинский клуб, уменьшенная копия знаменитого парижского клуба. Вступительный взнос составлял шесть ливров; женщины не принимались, но им было позволено наблюдать с церковных хоров за шумными сборищами своих революционных мужей и братьев, а иногда даже участвовать в прениях.
В театре шли трагедии: «Коварство бывших королей», «Преступления феодализма», «Жертвы монастырей», комедии: «Королевская оргия или пирушка Австриячки»[13], «Тайные утехи епископов», «Бракосочетание Папы». То, чему вчера ещё поклонялись и перед чем благоговели, было подвергнуто беспощадному бичеванию.
Представления чередовались с выборами: на оглушительных, орущих до хрипа собраниях избирали то заседателей совета Коммуны, то депутатов Законодательного собрания, то членов департаментской директории, окружного и городского суда, то, наконец, попечителей сиротского приюта.
Число торжеств превысило всякие разумные пределы. Помимо общенациональных ежегодных праздников вроде 14 июля[14] и 10 августа[15] департаментские власти учредили собственные праздники и памятные дни; так же поступала городская Коммуна и почти каждая секция. Еженедельно устраивались парадные шествия с барабанным боем, сверкали фейерверки, зажигались бумажные лампионы, мужчины и женщины прогуливались, украшенные трёхцветными республиканскими лентами, танцевали, распевали Карманьолу и заключали друг друга в патриотические объятия (l'accolade patriotique).
Но все эти внешние атрибуты народного счастья не могли ни смягчить людские сердца, ни уменьшить насилия, пустившего в обществе глубокие и прочные корни. 23 августа 91-го года Якобинский клуб Кана опубликовал полный список переехавших в город аристократов, которые в опасении за свою жизнь покинули окрестные поместья. Список сопровождался точным указанием их места жительства и размеров годового дохода. Тем самым была указана цель и дан сигнал к травле.
С тех пор какие только обвинения не звучали в адрес титулованных особ! Это они, подлые кровопийцы и извечные враги народа вызвали дороговизну продуктов, из-за них произошло несколько пожаров, из-за них рухнул во время праздника крытый павильон и побил людей, потому что были подточены его опоры. А когда в городе внезапно распространилась оспа, уже никто не сомневался, что её нарочно занесли вредоносные аристократы. Не проходило недели, чтобы ретивые клубисты не возбуждали судебное преследование против какого-нибудь дворянина, благо городской муниципалитет, то бишь Коммуна, была в их руках.
Преследуемые, в свою очередь, искали поддержки в окружной администрации и в директории департамента, где они имели немало сочувствующих. Бывшие маркизы, бароны и шевалье инстинктивно потянулись друг к другу; у них даже образовалось нечто вроде своего клуба с членскими взносами, печатным органом и вооружённой охраной. На заседаниях этого общества поговаривали, что надо приложить все усилия, чтобы провести в Коммуну своих людей и что прежнее наплевательское отношение к выборам в местные органы власти было непростительной ошибкой. Известие об этом особенно встревожило клубистов: они поняли, что противник не думает капитулировать и даже напротив, готовится перейти в наступление. К ноябрю 91-го года положение обострилось настолько, что открытое столкновение стало неминуемым.
Поводом к нему послужило письмо тогдашнего министра внутренних дел Делесара, направленного городской Коммуне, в котором требовалось неукоснительно соблюдать принцип свободы культов и не чинить никаких притеснений неприсягнувшим священникам[16]. К этому времени большинство непокорных кюре было уже изгнано из своих приходов, и на их месте служили мессу сознательные пастыри, признавшие Революцию.
Письмо Делесара ободрило всех «бывших». На другой день неприсягнувший кюре Бюнель в сопровождении своих каноников, певчих и большой толпы аристократов явился в отобранную у него церковь Сен-Жан, выпроводил из неё конституционного «самозванца» и отслужил торжественную мессу с пением «Te Deum»[17]. Со всех концов города к церкви потянулись верующие, обрадованные возвращением любимого пастыря. Клубисты тут же забили тревогу; не мешкая, собрался генеральный совет Коммуны, в церковь были посланы муниципальные офицеры, следом стали подтягиваться части национальной гвардии. Обстановка накалялась с каждой минутой. Возникшая у дверей церкви перепалка между патриотами и аристократами быстро переросла в кулачный бой, закончившийся перестрелкой на близлежащих улицах и на площади Сен-Совер. С обеих сторон в ход пошли сабли, пистолеты и фузеи. Четверо клубистов получили тяжёлые ранения. Справиться с аристократами смогла лишь подоспевшая национальная гвардия.
Коммуна не сомневалась, что имеет дело с контрреволюционным мятежом. Немедленно начались аресты руководителей путча и просто подозрительных лиц. Облава продолжалась до глубокого вечера; было схвачено до двухсот человек, которых заперли в городской цитадели. Клубисты вкушали победу, но для полного удовлетворения им не хватало лавров спасителей Свободы. Они искали настоящие улики. Когда у одного из задержанных обнаружили письмо под названием «проект объединения (projet de rassemblement)», победители исполнились истинным вдохновением: ещё бы, раскрыт злодейский заговор, направленный на истребление народной власти! Работа Коммуны закипела с новой силой. И не беда, что в пылу следствия главою заговорщиков записали бывшего маркиза, возраст которого перевалил за 77 лет и который едва шевелил языком; главное – теперь есть о чём говорить народу и рапортовать в Париж.
Впрочем, столица не торопилась поздравлять провинциальных героев. Департаментские власти доложили Законодательному собранию иную версию происшедшего, а генеральный прокурор-синдик Кальвадоса мсье Байё прямо обвинил Коммуну Кана в раздувании ажиотажа и превышении своих полномочий. Для обеспечения порядка в Кан были направлены линейные войска, не подчинявшиеся местной Коммуне. Клубисты восприняли это как тяжкое оскорбление, и хотя затем Законодательное собрание декретировало предание суду 84-х арестованных ими заговорщиков, включая и 77-летнего маркиза д'Эрици, обида на парижские власти надолго запала в душу канских патриотов. Не потому ли через полтора года они поддержали бежавших из Парижа депутатов и оказались в авангарде федералистского движения?
Как бы то ни было, первая победа, пусть и не полная, была ими всё же одержана. Город Кан очистился от проклятых аристократов, а в церкви Сен-Жан вновь воцарился конституционный священник (Мария Корде жила напротив этой церкви и прекрасно видела всё происходившее). Теперь на очереди была департаментская администрация, всё это время тайно интриговавшая против истинных патриотов и жаловавшаяся на них в Париж. Революционеры готовились к новым боям.
Из всех народных обществ в лидеры выбились каработы, – лихие парни с городских окраин, гудевшие ещё вчера в кабаках и трактирах, а ныне заседающие в большом зале с колоннами, имеющие собственную форму, оружие и знаки отличия. На их знамени было написано: «Исполнение закона или…», и ниже красовалось изображение человеческого черепа со скрещёнными костями в обрамлении языков пламени. «…Или смерть», – хотели сказать отважные каработы, подчёркивая свой патриотизм, но на деле получилось нечто пиратское.
Новый 92-й год был во всех отношениях выдающимся. Если до сих пор провинциальный город плёлся в хвосте событий, лишь дублируя то, что происходит в столице, то теперь, набравшись опыта, он стал даже опережать Революцию. В Париже ещё только готовились свергать королевскую власть, а в Кане уже вовсю шли аресты, хватали «приспешников венценосного тирана», участников широкого и разветвлённого роялистского заговора. Все аристократы, избежавшие суда в ноябре прошлого года, оказались в застенках того же городского замка.
Но главный удар был нанесён теперь не по ним. Под усиленным конвоем каработы отправили в темницу строптивого прокурора Байё, а заодно перетряхнули всю департаментскую директорию и ввели в неё людей, преданных Революции. Именно в те дни Бугон-Лонгре, до этого незаметный секретарь администрации, пересел в кресло генерального прокурора-синдика. Каработы немедленно создали собственный революционный трибунал, который должен был судить строго и беспристрастно, не давая никакого спуску заговорщикам. Теперь арестованным не могли помочь ни Париж, ни сам Господь Бог.
Впрочем, по-настоящему поработать трибуналу не пришлось. Вскоре пронёсся слух, что в тюрьмах готовится восстание, что из окрестных лесов выбрались разбойничьи шайки, угрожающие городу, а на Шербурском побережье вот-вот высадятся англичане. Все были чрезвычайно напуганы, по улицам бегали ошалелые люди, призывающие вооружаться, – для этого сломали замки арсенала и растащили его содержимое, – по всем дорогам выставили пикеты, в крепости свернули судопроизводство и немедленно казнили Байё и прочих сидящих там «врагов народа».
Спустя немного разбойники действительно появились, только они не выползли из густых лесов и не вырвались из тюремных застенков, а оказались всё теми же местными жителями, вооружившимися за счёт того же арсенала. Теперь редко какая ночь обходилась без происшествий. То грабили какой-либо состоятельный дом, то разворовывали какую-нибудь лавку или склад. От богачей перешли к людям умеренного достатка, а от них – к простым прохожим на улице. С наступлением темноты рекомендовалось не покидать пределы города, а в нём самом – передвигаться с величайшей опаской.
До самого июня 93-го года, до прибытия жирондистских вождей, Кан представлял собою глухую крепость на осадном положении. И только перед взорами столичных гостей, не желая ударить лицом в грязь, город стряхнул с себя тяжёлые путы, быстренько начистил мундир и обязал всех своих граждан радушно улыбаться и выказывать хорошие манеры.
Оттого-то сегодня ярко блистало солнце, прохожие на улице галантно раскланивались, приглашали в гости, оживлённо обсуждали новости и хвалили друг друга за патриотизм.
12
Гуё (gueux) – букв. «босяк (-и)», в годы Революции собирательный термин, обозначающий, с одной стороны, нищих, бродяг, людей низкого сословия, а с другой стороны – негодяев, смутьянов, бунтовщиков.
13
Имеется в виду королева Мария Антуанетта, которая была австрийской принцессой.
14
Праздник в честь падения Бастилии 14 июля 1789 г., называвшийся в Париже сначала «праздником копий», а затем праздником Федерации.
15
10 августа 1792 г. был взят штурмом королевский дворец Тюильри в Париже.
16
Имеется в виду священники, отказавшиеся присягать гражданской Конституции духовенства, принятой Учредительным собранием 24 августа 1790 г. и одобренной королём.
17
«Te Deum laudamus» («Тебя, Боже, хвалим») – церковный католический гимн, называемый также гимном св. Амвросия, исполняющийся в конце заутрени в торжественных случаях. Во время Революции исполнение «Te Deum», по крайней мере, в войсках, было официально заменено исполнением «Марсельезы».