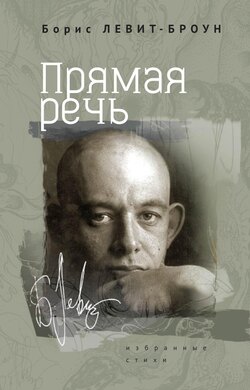Читать книгу Прямая речь. Избранные стихи - Борис Левит-Броун - Страница 15
Раздел 1
Из книги стихов
«Пожизненный дневник»
1993 год
Неудачные стихи
(поэма)
ОглавлениеНатуры, не приспособленные к преодолению нелепостей жизни, суть натуры слабые.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Когда сквозь строи смятых строк
к началу снова возвращаюсь,
и сердца смазанный курок
ищу,
я словно забавляюсь
стволом холодным у виска,
в котором пулею – тоска.
Ствол сердца наведён на жизнь,
я вижу всё, мне ясен смысл
реченья немца-моралиста:
«Тропа твоя узка и мглиста,
когда не сможешь жизни бред
ты проглотить с похлёбкой лет».
Нет, я – не подлинный, я сделан из бумаги,
и треплет мой беспомощный скелет
тот самый свежий ветер, что другим —
в надутый парус.
Слуха моего
не достигают птичьи трели будня,
и кососкулости на блюде студня не вижу…
студень, – больше ничего.
Как кот ступаю, тихо, осторожно
по краю блюда.
Скользкие края!
Оступишься, и в студень голомя
провалишься.
А выбраться так сложно,
так невозможно оторвать себя
от липкого желе.
Страшусь упасть
в бесформенную, «ласковую» пасть,
засасывающую как утроба,
перед которой даже двери гроба
не власть – Сезам… бальзам отдохновенья!
Мне проповедуют терпенье
и отовсюду шикают: «Опасен
твой путь, беспомощен протест!
Всем – крест один!»
А я не взнуздан! Не согласен!
Мне ворожат: «Не миновать беды!»,
воркуют про скупой стакан воды,
что не подаст мне в старости наследник.
Жизнь-исповедник
ужасной карою грозит,
а быт шипит: «Ты – паразит!»
Суровая цена – непониманье,
за тихое моё непослушанье:
за дни, облитые глазурью
тоски,
за всё, что пахнет дурью
с позиций положительной судьбы,
где пот, и труд, и рупь взаймы,
где крик детей и коммунальный грохот,
где женщины поют сквозь пьяный хохот
надравшихся мужей,
которым лишь одна понятна доля, —
тем больше алкоголя, чем хужей.
А им хужей, им скучно и темно,
и свет отцовства – мутное окно.
Там всё не радует, там всё не так…
там все любови, списанные в брак,
агонизируют и гаснут без надежды
в одежде кислого желе.
Её не снять!
И судороги счастия не взять
взаймы,
не одолжить, как соли,
той боли сладкой и заветной,
что манит душу безответным:
неведомою лаской, чёрным небом,
рассыпавшимся, как сухая корка хлеба,
на крошки бледные светил,
летящих среди вечных сил
и равнодушных созиданью
и разрушению.
(Лишь вечное блужданье
материи в материи.)
О, нет!
Ненастоящий я. Я сделан из бумаги!
И прогибается мой клееный скелет
под нерушимостью слепой отваги,
влекущей молодость в объятья быта,
в теплицы ежедневных сорняков,
в тенета нерасчётливых обетов,
в заветов отчих битые корыта,
которые, приняв за корабли,
она ведёт навстречу долгой смерти,
ведёт так медленно, так повседневно,
что жизнью кажется задухи коловерть.
А смерть смыкается за спинами, как шлюзы,
карнает век и налагает узы
на совесть,
на руку,
на шею,
на любовь…
Мы умираем долго, вновь и вновь
перед оскалом каждой новой смерти
оказываемся полуживыми,
стучимся в завтра душами пустыми,
но стойко мрём, придерживаясь тверди
заученных измлада заклинаний, —
наследий звонких и пустых,
– что надо жить,
что жизнь не терпит холостых,
что вовсе не души твоей погода,
а продолженье рода
суть цель твоя и суть,
что благ тяжёлый путь,
что как-нибудь состроишь счастье ты,
не допускай лишь пустоты, —
бездельности,
бездетности,
безлюдства
и прочего душевного беспутства!
Неотягчённости страшись
и помни, – только то есь жись,
что – в бремя,
в тяготу,
в заботу!
Сопротивляйся, жди субботы
и воскресения за ней,
чтобы замучивших цепей
чуть приослабить натяженье,
чтоб напряженье снять:
на час, на день
вкусить безделие, и лень,
и ланей, – символы желанья, —
узреть как некий сатана…
Увы, хоть пауза дана, —
не впрок тебе очарованье!
Назавтра – каторга опять.
Ты начинаешь размышлять
и понимаешь, – всё напрасно,
а праздность вольная опасна
твоим трудам, твоей семье
и прочей тусклой кутерьме,
которую зовут судьбою,
а надо бы тюрьмой назвать.
Там можно, разве что, зевать!
Наедине с самим собою
в неё давно не веришь ты.
Она лишь рупор пустоты,
калика с тощею сумою.
И как запуганный Нептун
заныриваешь под корягу,
и по морщинам фазы лун
считаешь, кутаясь в отвагу,
не сознаваясь сам себе,
что прозябаешь в пустоте,
что жалок ты, что почернели
твоей невинности цветы,
что среди нудной маеты
расстроились и поглупели
«рассветов бледные свирели»,
что весь твой юношеский вздор —
на дне души осевший сор.
Таков ты, бледный и немой,
и настоящий рыцарь быта,
в котором всё поперебито.
О чём же говорить с тобой?
О празднике?
О спазме счастья?
О благотворности ненастья
для оторвавшейся души?
О том, что суета – гроши?
О чём?
О творчестве? О боли?
А может, о посконной доле
карабкающихся на шест,
у жизни вырвавших борьбою
лишь право грустное на крест?
О чём заговорить с тобою?
И что с собою делать мне,
не приспособленному к тьме?
С добропорядком не в ладу,
среди людей я как в аду.
Или хочу я слишком много,
или сужу уж слишком строго,
а всё приюта не найду
в саду общественной морали!
Нет на Моисеевой скрижали
слов для меня…