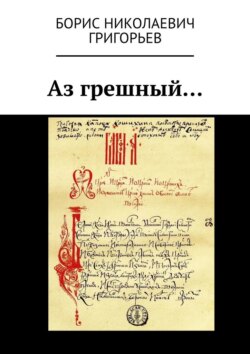Читать книгу Аз грешный… - Борис Николаевич Григорьев - Страница 4
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«Тишайший» царь России
ОглавлениеЦарю же отложивши всякие государственныя
и земския дела правити и росправу чинити…
Г. Котошихин
Царствование царя Алексея Михайловича Тишайшего на самом деле вряд ли оправдывало данное ему в народе прозвище.
И правда: назвать вторую половину и особенно третью четверть семнадцатого столетия тихой да благодатной можно лишь с большой натяжкой. За время ношения царём Мономаховой шапки на внешних границах Московии постоянно, не прекращаясь, велись изнурительные для казны и для населения войны то со шведами, то с поляками, то с крымскими татарами, а то и со всеми одновременно.
Внутренние устои государства с завидной регулярностью сотрясались народными бунтами: Медным, Соляным, Псковским, Новгородским, а потом и казацкой вольницей Степки Разина. Крупные волнения, в конце концов, жестоко усмирялись, но разбой, грабежи и убийства, творимые многочисленными мелкими шайками, не прекращались ни на один день, так что царские сыщики с приданными им стрелецкими отрядами без сна и отдыха гонялись за ними по бескрайним российским весям, попутно не забывая воспользоваться своей властью для «обдирательства народа».
Церковь тоже не оставалась в стороне. С благословения царя и его любимца патриарха Никона она со всей своей православной истовостью встала на борьбу за чистоту веры и церковных догматов, вызвав тем самым недовольство значительной части клира во главе с протопопом Аввакумом. Между никонианами и сторонниками старого обряда возник раскол, разгорелась неистовая религиозная распря, породившая феномен раскольничества и старообрядчества, который потом счастливо перекочевал в наследство всем родственникам Тишайшего, управлявшим после него Россией ещё 250 лет.
Видно, у подданных царя ещё настолько были свежи воспоминания о грозном царе Иване Васильевиче и о «деятелях» Великой Смуты, что второй отпрыск семейства Романовых, по сравнению со своими предшественниками на российском троне, показался им просто ангелом во плоти и заслужил прозвище «тишайшего». Известно, что русский подданный может быть доволен и тем, что царь не сдирает с него последнюю рубаху и не лишает живота.
Впрочем, царь Алексей действительно был человеком тихим, мягким, добродушным, благочестивым, богобоязненным и очень добросовестно относившимся к исполнению своих царских полномочий.
– Бог благословил и передал нам, Государю, править и рассуждать люди своя на востоке и на западе, и на юге и на севере по правде, – любил приговаривать он в часы умиления. – Лучше слезами, усердием и смирением перед Богом промысел чинить, чем силой и надменностью.
Царь не переносил жестокости и не позволял жестокого обращения с людьми ни себе, ни другим. Однажды ему донесли, что проживавший в Москве грузинский князь Ираклий за какую-то провинность приказал обрезать нос и уши своему слуге. Возмущённый Алексей Михайлович послал сказать князю, что «если он и впредь намерен поступать так же, то может отправляться в свою Грузию или куда ему угодно, но в Москве таких жестокостей не терпят».
Это вовсе не означает, что царь терпел или поощрял ослушников – иначе какой же он был бы царь? Нет, он их непременно наказывал, но меру наказания им определял весьма своеобразную. Царь был большим шутником и даже из всякого наказания хотел сделать для себя развлечение. Так в любимом селе Коломенском, куда весь двор летом выезжал на «дачу», он приказал вырыть специальную «купель Иордань», в которую отправлял купаться провинившуюся челядь: кого за опоздание, кого за сквернословие, а кого и за порчу блюда или за иную провинность.
– Тем и утешаюся, что еже утр купаю в купели человека по четыре по пяти, а то и по двенадцати, – рассказывал царь любимому стольнику Матюшкину. – Да после купания жалую, зову их ежеден к столу и угощаю.
– Царь-батюшка! – восклицал в порыве обожания суверена конопатый стольник. – Уж ты впрямь гораздо милостив к верховым людишкам! Нашего брата никак нельзя баловать – одна поруха будет.
– Ништо, Прокопий, ништо, – отвечал царь, покрываясь румянцем и поглаживая пухлой ручкой по пухлому животику, – суть наказания – не жестокосердие, а прозрение вины свершённой. Вот так-то, друже! Заговорился я тут с тобой, а мне на обедню пора. Мария Ильинишна поди ужо впереди меня поспела. О-хо-хо-хо-хо! Грехи наши тяжкие…
«Купальщики» бывали очень довольны царским угощением, наедались вдосталь и уходили восвояси, сговариваясь на следующий день непременно учинить ещё какое-нибудь «упущение». Царь был простодушен и хлебосолен и подвоха не подозревал, к тому же вода в купели была тёплая.
Впрочем, Тишайший не был формалистом и, рассердившись, мог и оттаскать какого-нибудь «холопа» за бороду или запросто отдубасить его по спине палкой. Нравы при дворе и вообще в государстве были простые и незатейливые, царь был волен в своих действиях и мог, кого угодно, казнить или миловать. Но он никогда беспричинно не посягал на жизнь, имущество или достоинство людей и если приказывал казнить, то всегда за дело. Например, он не терпел, когда холопы бунтовали против своих господ. Тут разговор бывал короткий, потому что нарушался чин, то есть порядок. А порядок самодержец ставил выше всего на свете. Он просто был убеждён, что «чин» нужно беспременно вносить во все промыслы человека.
– Без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепится: бесстройство же теряет дело и восставляет безделье, – рассуждал он в своих произведениях (царь был не без литературных задатков и склонностей к философствованию). Со временем этот дар у Романовых постепенно иссякнет, но для этого понадобится почти целых три века, две смены общественного строя и торжество прогресса.
Одним словом, Алексей Михайлович был царь глубоко положительный, и дальнейшее перечисление всех его достоинств может быть утомительным для читателя. Мы же ограничимся только тем, что закончим этот список указанием на его поистине религиозное подвижничество, аскетизм и умеренность, любознательность и подвижный яркий ум, высокую нравственность и порядочность.
Недостатки? Так кто же их не имеет на Руси.
Да, он бывал временами слишком деликатен и мягок. Он не мог высказать человеку справедливых претензий в глаза, и такое его малодушие на деле оборачивалось византийским коварством, потому что заглаза трудные решения Тишайшему давались легче. Да, Алексей Михайлович не особенно утруждал себя государственными делами и даже относился к ним с некоторой ленцой, но ведь царь был такой же русский, как и все его подданные. Чего же от него требовать? И никто и не требовал. Но зато он знал меру в развлечениях и даже ввёл в русский обиход поговорку: делу – время, потехе – час. Поговорке вообще не было бы цены, если бы царь уточнил, которая величина больше: та, что употребляется на дело, или та, что отведена для потехи. Но все равно: если беспристрастно оценить достоинства и недостатки царя, то всякому станет ясно, что царь Алексей Михайлович был и монархом и человеком с «плюсом».
Так, значит, не напрасно он получил прозвище Тишайший? Выходит, да. Войны, восстания, искания веры, грабежи и разбои всегда сопутствовали русскому бытию – их придумал отнюдь не Тишайший. А суть в том, что при Тишайшем на всём был отпечаток благообразия. В том, что из-за высоких кремлёвских теремов до народа нет-нет, да доходил голос сочувствия к его страданиям и что сам царь подавал искренний пример человеколюбия, смирения перед Богом и добронравия. И при его отце Михаиле Фёдоровиче на Руси восстановились мир и спокойствие, но Тишайшим народ назвал именно сына, хотя при отце ни войн, ни восстаний, ни других крупных катаклизмов вообще зарегистрировано не было. Такое уж время выпало на правление Алексея Михайловича неспокойное, а сам-то царь был «вельми тишайший».
Московскому войску не составило большого труда нанести полякам несколько поражений, а главное – вернуть «оттяпанный» поляками во время Смуты Смоленск и даже присоединить к России Литовское княжество. Кроме того, украинские казаки во главе с гетманом Богданом Хмельницким в это время тоже добились успехов в борьбе с польскими панами и от имени Украинской Рады попросились под руку московского государя. Тишайший, любивший обставлять своё царствование с «превеликой пышностью», стал называться теперь «всея Великия, Малыя и Белыя Руси Самодержец», а также «Великий князь Литовский». Польский «промысел» царя облегчился к тому же вторжением в 1655 году шведов, имевших, со своей стороны, свои претензии к Яну Казимиру, в том числе и династийные.
Армия Карла X Густава прошла через всю Польшу, практически не встречая никакого сопротивления. Король Ян Казимир спасся бегством в Вену под крыло императора Священной Римской империи, а многие литовские и польские магнаты присягнули на верность шведской короне. Карл X Густав уже примерял на голову польскую корону. Оставленные в Ливонии малочисленные воинские части под командованием графа Магнуса Делагарди, шурина короля и сына того самого Якоба Делагарди, который во времена Смуты вместе с князем Скопиным-Шуйским воевал поляков, а потом захватил Новгородскую землю, в соприкосновение с русским войсками пока не приходили. Впрочем, Карл X Густав в войне с Россией заинтересован вовсе не был.
Но потом, по мере ведения военных действий, для Москвы началась полоса неудач. В дело спасения католической Польши от «богомерзких схизматиков» и «вероотступников-лютеран» вмешался Ватикан и австрийский император. В Москву в конце 1655 года приехал императорский посланник Алегретти и стал интриговать и натравливать царя на шведского короля Карла Х Густава. Тишайшего Алексея Михайловича ловкий итальянец сумел умаслить дарами, в числе которых находились мощи святого Николая Чудотворца, а для бояр и ближайших советников царя Алегретти нашёл нужные слова: самовольные и несогласованные-де с Москвой действия шведов в северной Польше задевают-де честь русского царя, ибо они, шведы, взяли под свою руку княжество Литовское, которое самим Богом было предназначено для царя самодержавного. Какой же он теперь Великий князь Литовский? Нет, Москве негоже оставлять такую дерзость безнаказанно! Алегретти знал, на чём можно было сыграть – «чин» для московского царя был превыше всего!
Действительно, повод для таких инсинуаций дали сами шведы: их король Карл Х объявил над Литвой протекторат и дал переметнувшемуся на шведскую сторону литовскому гетману Янушу Радзивиллу обещание возвратить все литовские владения, занятые московским войском, а его Магнус Делагарди, склоняя литовцев к шведскому подданству и вступив в сомнительные переговоры с Хмельницким, неуважительно отзывался о царе.
Всё это пришлось Тишайшему не по нраву. Напрасно шведский резидент, посланный в Москву ещё королевой Кристиной, напрягал все свои дипломатические способности, чтобы устранить возникшие недоразумения.
– А таков смышлён и купить ево то дорого дать, что полтина, хоть и думный человек, – язвительно говорил царь о резиденте Артамону Матвееву. – Да што ж делать, така нам честь!
Но царь доводы шведа не воспринимал и отвергал с порога.
В своём послании к Тишайшему Карл Х Густав, склоняя царя крепко держать позорное для России Столбовское докончание, т.е. мир, лицемерно твердил о любви между государями. Это ещё больше возмутило царя: шведский король прислал в Москву заведомого дурака, чтобы обвести его, московского государя, вокруг пальца.
– А мы мним, – комментировал Тишайший обращение Карла, – делает он это не столько от любви, а сколько вдвое того от страху.
Подзуживаемые австрийским послом и одушевлённые недовольством царя, думные бояре упорно вели дело к войне со свеями, упрекая их к тому же в возмутительных сношениях с казацкой Радой, имеющих своей целью отвратить Украину от Москвы, и уличая ещё кое в чём. Хорватский славянофил, священник и учёный Юрий Крижанич, нашедший убежище в России, призывал к единению славян под скипетром русского царя и уличал шведов в экспансии. Бояре, вспомнили об обиде московскому государству, нанесённой шведами при обращении с делом Тимошки Анкудинова. Это гнилое и «дохлое» дело снова вытащили из старых сундуков и стали им потрясать перед «рожей свейского посла». Мы, мол, тебе покажем Кемскую волость!6
Тимофей Анкудинов, сам родом из Вологды, служил себе в одном из Приказов подьячим, и – кто знает – может быть и дослужился бы до дьяка, да нашептал ему бес на ухо «прельстительные мысли», и решил Тимошка повысить свой социальный статус, который он считал слишком заниженным. Ведь смог же монах Гришка Отрепьев взобраться на московский трон, а чем он, Тимошка Анкудинов, хуже его? Да ничем! И замыслил Анкудинов объявить себя сыном царских кровей, чтобы потом претендовать на престол. В родители себе Тимоха выбрал сгинувшего в Польше царя Василия Ивановича Шуйского, который сорок шесть лет тому назад женился на молодой княжне Марии Петровне Буйносовой-Ростовой и, следовательно, мог иметь сынка.
Сказано – сделано. К осуществлению далеко идущих планов Анкудинов привлёк своего товарища по Приказу Алёху Конюховского. Ещё задолго до начала войны с Польшей они благополучно бежали сначала в Литву, но, не встретив там сочувствия своему замыслу, подались оттуда в Константинополь, где Тимошка объявил себя Иваном Васильевичем Пятым. Туркам самозванец не понравился, и Тимошка ушёл в Италию, где прикинулся ревнителем католической веры, связался с представителями Святого Престола и начал давать ему авансы относительно обращения православных московитов в правильных католиков. Но и в Италии беглецы успеха тоже не имели и пустились по Европе в поисках дальнейшего своего счастья.
Эти поиски привели их, в конце концов, к Богдану Хмельницкому, но в планы гетмана вряд ли входило вредить Алексею Михайловичу. Он просто отмахнулся от Анкудинова, как от назойливой мухи, и прогнал его прочь. Тимошка с Алёшкой пожили какое-то время в Чигирине, потом в Мгарском монастыре, а когда Украинская Рада взяла курс на присоединение к Москве, они спешно покинули пределы Малороссии и через Польшу пробрались в Стокгольм.
Тайному приказу быстро стало известно о появлении самозванца в «свейской Стекольне»7, и Москва через Посольский приказ тут же потребовала его выдачи.
Приказ Тайных Дел; а в нём сидит дьяк да подьячих с 10 человек, и ведают они и делают дела всякия царския, тайные и явные. А устроен тот приказ при нынешнем царе, для того чтоб его царская мысль и дела исполнилися все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чём не ведали.
Московские цари слишком хорошо знали цену самозванству и решили с огнём не шутить, а пресечь зло немедленно. Русский посланник князь Головин организовал несколько шустрых новгородских торговых людишек, постоянно пребывающих в Швеции, и с их помощью выследил и схватил Алёху Конюховского. В дело, однако, вмешалась «сердобольная» королева Кристина и велела отпустить пленника, а Головину приказала немедленно покинуть Швецию.
Некоторое время спустя в Стокгольм прибыл царский гонец Челищев. Ему тоже сопутствовала удача, и он тоже сумел схватить Конюховского, однако вывезти его в Москву тоже не смог – опять помешали всё те же шведы. Они укрыли самозванца и тайно переправили его в Голштинию. Тамошний герцог Фридрих недолго кормил «Ивана V» дармовым голштинским хлебом и при первой представившейся возможности выдал его представителю Посольского приказа в обмен на какую-то взаимность со стороны Московии. Тимошку привезли в Москву и в конце 1653 года, как водится, четвертовали.
Известную роль в развязывании войны со Швецией сыграл и пользовавшийся доверием царя полонофил А.Л.Ордин-Нащокин, ярый сторонник т.н. польской партии. Он, наоборот, усиленно рекомендовал Тишайшему заключить с поляками перемирие – пусть даже ценой потери исконных русских земель – и всеми силами обрушиться на шведские провинции Ливонию, Эстонию и Ингрию.
Как бы то ни было, интриги Алегретти увенчались полным успехом: Москва начала с позиции силы мирные переговоры с поляками и готовилась объявить войну своей потенциальной союзнице Швеции. Карл Х всполошился и решил вступить с царём в дипломатические переговоры, для чего послал в Москву своего надворного советника Густава Бьельке. Бьельке в сентябре 1655 года выехал из Риги, в конце октября добрался до Москвы, но получить аудиенцию у Тишайшего смог только в декабре – царь находился при войске под Смоленском.
Карл Х, между прочим, фактически предложил Алексею Михайловичу разделить Польшу между Россией и Швецией8, на что царь ответил категорическим отказом. Переговоры затягивались, не договориться со шведами царю усердно помогали послы австрийского кесаря и бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма. Последний, отказавшись от союза с Карлом Х Густавом, вступил в антишведский союз с Яном Казимиром, взяв за это у поляков часть Пруссии, и был кровно заинтересован в срыве шведско-русских переговоров. Посла Бъельке московские бояре и дьяки стали всячески притеснять и держать на положении пленного, а семнадцатого мая 1656 года дьяк в «государевом имени»9 Дементий Башмаков, возглавлявший Тайный приказ, объявил, наконец, шведу, что «мирное докончание нарушено» шведской стороной, после чего всё шведское посольство посадили в тюрьму.
Россия окончательно вставала на тропу Первой Северной войны.
– Богоугодное дело начинаешь, царь-государь, – одобрительно гудел патриарх Никон царю. – Сокрушить богомерзких отступников от учения нашего Иисуса Христа – святое дело!
Лютеране не пользовались популярностью не только в Риме, но и в Москве, хотя никакими вредностями по отношению к православию никогда не отличались, а наоборот: почти все контакты с Москвой поддерживали в основном лютеранские страны. Козни шли из Ватикана и католических стран, но на Руси особых различий между лютеранами и католиками не делали. Например, патриарх Никон с лютеранством связывал всё непотребное, что проникало из Европы в Россию: табак, вино, музыку, книги, театр и «прочий разврат».
Царь же почитал учение Иисуса Христа, дружил с Никоном и свято верил ему. Ему было невдомёк, что Лютер был таким же «богоотступником», как сам Никон, взявшийся за исправление церковных книг и православных обрядов. Кстати, царь-батюшка выказывал явное предрасположение к некоторым из этих «лютеранских мерзостей»: он завёл у себя при дворе театр, музыку и проявлял живой интерес к занимательной западной литературе. Алексей Михайлович пропускал мимо ушей наскоки патриарха на «иноземщину», справедливо полагая, что они к нему отношения не имеют, потому что наместнику Бога на земле всё можно.
Не завершив войны с Речью Посполитой и находясь в состоянии перманентной войны с крымскими татарами, Россия начала военные действия против Швеции. Засадив шведского посла в кутузку, царь, стало быть, приготовился выехать на войну. На сей раз никаких торжественных проводов войску в шведский поход устраивать не пришлось, ибо оно уже находилось на месте, и никакого другого войска у царя не было. Надо было только дать воеводам указание оставить поляков временно в покое и, передвинув полки в Ливонию, всеми силами ополчиться на свеев. Войско выступало из-под Смоленска двумя основными колоннами: одна – под командованием князя Я.К.Черкасского – взяла направление на Ригу, а другая – под начальством князя А.Н.Трубецкого – устремилась к Дерпту. Небольшой отряд, возглавляемый воеводой П. Потёмкиным, должен был действовать в Ижорской земле и Карелии10.
А когда лучится царю итти самому в войну, и бывает в его полку всякого чину людей с 30.000 человек; да в полках о розных бояр и воевод бывает тысячь по 20 и по 15 и по 10 и по 7 в полку.
3 июня Потёмкин с полуторатысячным отрядом перешёл границу у Невы, блокировал Орешек и сходу взял Нюеншанц. Шведы к войне не были готовы и располагали в Ингрии лишь небольшими гарнизонами. Выборг располагал сильным гарнизоном, но и он тоже не мог оказать другим гарнизонам существенную помощь. Местное православное население встретило русских воинов как освободителей и всеми силами помогало изгнать из края шведов. В Копорском уезде даже действовал партизанский отряд Ивана Полтева. 22 июня Потёмкин посадил часть своего отряда на построенные в Кокенесе струги, у острова Котлин вступил в сражение со шведским флотом и нанёс ему поражение.
А 30 июля русская армия после символического сопротивления литовцев вошла в Вильну. Порвав с Яном Казимиром, литовские магнаты во главе с князем Янушем Радзивиллом отдались под руку шведского короля и 8 августа 1655 года в Киеданах подписали с Магнусом Габриэлем Делагарди соответствующее соглашение. Теперь половина Литвы принадлежала России, а половина якобы находилась под протекцией Швеции. Но уже при подписании Киеданского соглашения у многих литовцев от удивления поднялись брови: из некоторых формулировок однозначно явствовало, что Литве была уготована судьба шведской провинции Ливонии!
Как бы то ни было, война для русских вроде началась весьма удачно. Как правило, зачинщику на первых порах всегда сопутствует успех – только удержать его удаётся не всем. Шведы не успели сосредоточить нужных сил ни в Ливонии, ни в Ингрии, и русские сходу взяли Динабург, быстренько переименовав его в Борисоглебов, захватили Кокенхаузен, получивший название Царевичев-Дмитриева, осадили Дерпт, овладели им после упорных боёв, а потом приступили к осаде основной шведской крепости в Прибалтике – Риги.
Рига, однако, оказалась крепким орешком. Там генерал-губернатор и главнокомандующий шведской армией в Ливонии М. Делагарди практически держал всё войско. Для облегчения осады отряд А.Л.Ордын-Нащокина, друйского воеводы, должен был взять морские ворота крепости – укрепление Дюнамюнде, но шведский флот помешал этому предприятию, и Ригу пришлось штурмовать в лоб. После кровопролитных двухмесячных боёв под стенами крепости осаду пришлось снять. Cвою роль сыграло роль неблаговидное поведение немецких наёмников, которые в ответственный момент переметнулись на сторону шведов. Личное присутствие царя во время осады не помогло московскому войску, и в начале октября 1656 года оно было вынуждено снять осаду крепости и вообще удалиться из Ливонии.
К зиме наступательный дух русской армии стал выдыхаться, шведы подтянули подкрепление и нанесли ей несколько поражений. Так в июне 1657 года Псковский полк окольничего М.В.Шереметева проиграл бой под Валком, в ходе которого в шведский плен попал сам воевода. В июле 1657 года Алексей Михайлович писал в письме ловчему А.И.Матюшкину: «Брат! Буди тебе ведомо: у Матвея Шереметева был бой с немецкими11 людьми. И дворяне издрогали и побежали все, а Матвей остался в отводе и сорвал немецких людей. Да навстречю иные пришли роты, и Матвей напустил и на тех с неболшими людми, да лошадь повалилась, так его и взяли! А людей наших всяких чинов 51 человек убит да ранено 35 человек. И то благодарю Бога, что от трёх тысяч столько побито, а то все целы, потому что побежали; и сами плачют, что так грех учинился! …А с кем бой был, и тех немец всего было две тысячи; наших и болши было, да так грех пришёл. А о Матвее не тужи: будет здоров, вперёд ему к чести! Радуйся, что люди целы, а Матвей будет по-прежнему».
Матвей Шереметев, ровесник царя и лучший друг его родственника Матюшкина, к сожалению, «по-прежнему не будет»: в плену он скончался от ран.
В сентябре восьмитысячная армия шведов под командованием Делагарди вторглась в Гдовский уезд и осадила город Гдов. Малочисленный гарнизон города отчаянно защищался, отбив два штурма шведов, но силы были не равны, и крепость должна была вот-вот пасть. На выручку Гдову поспешил отряд горячего князя И.А.Хованского, известного по кличке «Тараруй». Это ему Тишайший по горячности сказал:
– Я тебя взыскал и выбрал на службу, а то тебя всяк называл бы дураком.
Делагарди решил не рисковать и, сняв осаду, дал приказ к отступлению. Отряд Хованского бросился преследовать шведов и 16 сентября 1657 года настиг их у речки Черми между Гдовом и Сыренском. В разыгравшемся сражении шведы потерпели сокрушительное поражение, потеряв много солдат и офицеров. Среди убитых оказались два шведских генерала – фон Ливен и Фитингхоф, получившие повышение как раз за бой под Валком; у шведов было захвачено 6 знамён, включая личный стяг графа Магнуса. От гнева Карла Х графа Делагарди спасло только родство с ним (граф был женат на сестре короля).
Преследуя шведов, Хованский сжёг Нарву, переправился на другой берег, взял Ивангород, совершил рейд вглубь Ингерманландии и глубокой осенью вернулся в Псков. Пока шведы тоже не были в состоянии одержать в Ливонии решительную победу, они отвлеклись на Польшу и Данию, поэтому последующие два года война с обеих сторон характеризовалась вяло текущими действиями, мелкими стычками и топтанием на месте.
Не добившись своих целей в Ливонии, Москва оказалась у разбитого корыта и в Польше. Планы Москвы присоединить Литовское княжество и избрать на польский трон Алексея Михайловича или его сына встретили там ожесточённое сопротивление, и начавшиеся в Вильно переговоры зашли в тупик. В Вильно появился небезызвестный Алегретти и стал энергично агитировать панов против Москвы. Поляки увидели, что их бывшие враги перессорились между собой, воспрянули духом и в 1660 году нанесли в Литве поражение двадцатитысячному войску князя Хованского.
Царь созвал бояр на «сидение», чтобы обсудить с ними неожиданное обострение событий в Польше. Бояре сгрудились в передней – ближние как можно ближе к дверям, ведущим в палату царя, остальные выстроились в нестройный ряд соответственно роду, чину и званию. Самый ближний, Илья Милославский, то и дело отворял дверь и заглядывал внутрь, чтобы не пропустить момент появления Тишайшего. Бояре не скрывали своего недоброжелательства к Милославскому, но не роптали. Поди попробуй потягаться с царским тестем! Князь Львов попробовал, да ему тут же указали, что местничать с царскими родственниками негоже.
– Все тут собрались? – строго – на правах царского родственника – вопрошает Милославский, обводя бояр бегающими рысьими глазками.
– Все! Все здеся! – нестройно отвечают бояре.
– Кажись, Пронского нетути! – раздаётся из задних рядов.
– Семеро одного не ждут. Пусть на себя пеняет!
Опоздавшим грозит царёв выговор, а то и битьё батогами.
Между тем, с трудом переводя дух, появляется князь Пронский. Улучив момент, бояре заходят в палату, норовя занять место поближе к царскому креслу в углу. Возникает сутолока, прерываемая появлением царя. Все встают и кланяются в землю. Тишайший усаживается в своё кресло и сразу обращается к собравшимся:
– Я призвал вас, бояре, по важному государственному делу. Вам должно быть известно, что дела наши переговорные с поляками идут не так гладко, как хотелося бы. Что присоветуете?
Упершись густыми длинными бородами в крутые животы, бояре угрюмо смотрели в пол и молчали. И тут вскочил князь Милославский, тесть Тишайшего, и заносчиво произнёс:
– Превеликий государь! Дай мне войско и через месяц я приведу к тебе на аркане короля Польши!
Бороды резко взметнулись вверх и вопросительно упёрлись в родственника царя.
Царь вскочил с трона и закричал:
– Как ты смеешь – ты, страдник, худой человечишка – хвастаться своим искусстовом в деле ратном! Когда ты ходил с полками? Какие-такие победы показал над неприятелем?
Тесть стоял и глупо улыбался.
Тишайшего эта улыбка окончательно вывела из себя. Он рассвирепел, путаясь в полах своего царского одеяния, петухом подскочил к Милославскому, размахнулся пухлой ручкой и со всего маху влепил ему звонкую пощёчину. Милославский перестал улыбаться, но продолжал стоять нерушимо в ожидании дальнейших «милостей» от дорогого зятя. А зять вцепился ему в бороду и начал её мотать из стороны в сторону:
– Кто на похвальбе ходит, всегда посрамлен бывает!
Царь подтащил тестя за бороду к двери палаты, распахнул её ногой, дал князю пинком под зад и с треском захлопнул дверь.
– Ишь каков!
Тишайший отряхнул пухленькие ручки от грязного хвастуна и вернулся на трон. Когда он вновь обвёл взором палату, то увидел перед собой всю ту же картину: согнутые шеи с вениками бород и частокол торчащих над головами посохов. Никто из присутствовавших не смел ничего советовать царю. Но даже если бы они и осмелились, то сказать им было ровным счётом нечего.
Тишайший, собственными глазами увидевший, как выглядит хорошо обученная европейская – шведская – армия, в это время уделял пристальное внимание перевооружению и переоснащению русской армии. И хотя в войну русские вступили вполне подготовленными, но ощущалась острая нехватка в регулярных дисциплинированных полках и опытных воеводах и офицерах. Стараясь компенсировать этот недостаток, царь по возвращении из Риги приказал сформировать в Москве 3 рейтарских, 6 драгунских и 4 солдатских полка. По его указу в Пскове князь И.А.Хованский приступил к формированию 3 новых солдатских полков. Одновременно по поручению Тишайшего в Амстердам выехал голландец И. Гебдон, который был должен завербовать в Европе несколько полков, полностью укомплектованных иностранцами. Эту задачу И. Гебдон выполнить не смог, потому что иностранцы отказывались получать русское жалованье медными деньгами, в то время как царь не желал делать в отношении них исключение и выплачивать им жалованье серебром, потому что справедливо опасался недовольства в остальных полках русской армии. Это правило спустя сорок лет нарушит сын Тишайшего, Великий Пётр.
…Московскому послу Никите Ивановичу Одоевскому со товарищи пришлось здорово потрудиться и извести изрядную сумму денег на подкуп влиятельных ясновельможных панов, прежде чем к октябрю месяцу им удалось уломать строптивых переговорщиков и добиться от них обещания выбрать на польский трон московского представителя. Взамен Москва обязалась вернуть Речи Посполитой все завоёванные земли, кроме исконно русских. Богдан Хмельницкий при известии об этом так был огорчён и обижен на Москву, что заболел и вскоре умер.
А поляки и не думали выполнять своё обещание и, заключив со шведами мир в Оливе, открыли против русских военные действия. В итоге Москва лишилась всех своих внешнеполитических преимуществ и территориальных приобретений и нажила себе – кроме турок и крымских татар – новых врагов в лице не только поляков, но и шведов и малороссийских казаков. Бездарнее внешней политики, чем та, которую проводил в это время Тишайший, придумать было трудно. Исправлять её пришлось знаменитому дипломату и разведчику Ордын-Нащокину.
Нащокин во время военных действий со шведами был воеводой в литовском городе Друе, воевал под Динабургом, ездил в Митаву, чтобы склонить к поддержке русских войск в Прибалтике курляндского герцога Якова (Якоб), успел побывать под Ригой, а после этого надолго уселся воеводой в Царевичеве-Дмитриеве с неограниченными полномочиями «лифляндского воеводы», то есть главноначальствующего лица царя в завоёванных прибалтийских городах. Оттуда он продолжал оказывать влияние на формирование политики царя и успешно соперничать с такими любимцами Тишайшего, как мудрейший дьяк Алмаз Иванов и его родственник Артамон Матвеев. Впрочем, царь, прислушиваясь к мнению «лифляндского воеводы», окончательные решения оставлял за собой и боярской думой. Здесь же Нащокин организовал эффективную разведывательную работу против шведов и по всем статьям переиграл в этом деле противника. Для добычи военно-политической информации он активно использовал лазутчиков, шпионов и местное русское население. Успешные действия русских войск в Лифляндии во многом обязаны сведениям, полученным людьми Ордин-Нащокина.
Так и пришлось России напрягать свои силы в борьбе с Польшей и Швецией, отвлекаясь при этом на уговаривание и усмирение запорожских казаков, на отражение набегов крымских татар ещё много-много лет.
Конца этой борьбе на несколько фронтов не было видно.
6
Сорок пять лет спустя сын Тишайшего царь Пётр для объявления войны шведам также использует пустяковый повод – плохое обращение с Великим посольством при проезде через Ригу.
7
Так тогда русские называли Стокгольм.
8
Вот кто, оказывается, был одним из первых авторов идеи раздела Польши!
9
Т.е. имевший разрешение выступать, писать указы от имени царя
10
Современный шведский историк П. Энглунд отмечает, что война в Ингрии в это время носила для Москвы фактически освободительный характер.
11
На Руси всех иностранцев, включая шведов, называли обобщённым именем «немцы».