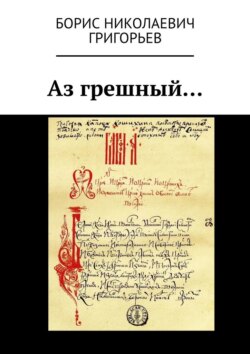Читать книгу Аз грешный… - Борис Николаевич Григорьев - Страница 7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Русский Ришелье
ОглавлениеПрежние большие роды, князей и бояр, многие без остатку миновалися…
Роды же, которые бывают в …околничих, из честных родов и из середних, и из дворян…
Г. Котошихин
Афанасий сын Лаврентьев Ордын-Нащокин, был человеком образованным и начитанным. Родился он в 1607 году в семье мелкопоместного дворянина Лаврентия сына Денисова в городе Опочке, что близ славного города Пскова. Заезжий поляк обучил его польскому и латинскому языку и навсегда поселил в его душе уважение и почитание к Польше. Где-то в 30-х годах он познакомился с псковским дворянином Василием Колобовым и вскоре женился на его дочери. От этого брака родились два сына: Воин и Василий.
Афанасий, кроме языков, разбирался в механике и математике, обладал цепким аналитическим умом и умел «слагательно» подавать свои мысли на бумаге. В 40-х годах он поехал в Москву, вошёл в круг московской приказной братии и вскоре был замечен царём Михаилом Фёдоровичем и приближен ко двору. Тогда Ордын-Нащокин представил царю несколько аналитических документов, в которых была сформулирована программная мысль о том, что России, не отвергая иностранные заимствования, следует идти к международному утверждению своим путём, используя в первую очередь свою самобытность, свой исторический опыт и накопленные знания и мудрость.
Когда Москва, едва успев оправиться от последствий Смуты, вновь почувствовала приближение внешней угрозы со стороны Оттоманской империи и Речи Посполитой, Михаил Фёдорович отправил Ордын-Нащокина с разведывательно-дипломатической миссией к молдавскому господарю в город Яссы, который тогда оказался в точке пересечении интересов Востока и Запада. Нужно было реально оценить размеры этой угрозы и сделать прогноз относительно возможных сроков и путей реализации захватнических планов Стамбула и Варшавы. Ордын-Нащокин выехал из Москвы не с пустыми руками, а вельми нагруженный поминками – серебром, рухлядью, камкой и чеканкой, предназначенными преодолевать препятствия на пути к выведыванию тайных замыслов врагов России.
Афанасий Лаврентьевич блестяще справился с поставленной перед ним задачей. Добравшись до Ясс окольными путями, чтобы не привлекать к себе и дорогостоящему багажу излишнего внимания, Нащокин перво-наперво посетил господаря Василия Лупу. По тайному уговору между царём и господарем было условлено, что посланец Москвы поступает на службу к Лупе и обязуется выполнять все его указания и распоряжения. Москвич получил от господаря удобную резиденцию, слуг, гардероб местной одежды и немедленно приступил к выполнению своей секретной миссии.
Ордын-Нащокин разумно пользовался предоставленной ему «крышей», то есть, не отказываясь от выполнения своих новых обязанностей в ясском дворе, уделял основное внимание наказу царя Московии, а господарь, со своей стороны, не перегружая его своими поручениями, всячески содействовал успеху тайной миссии Нащокина. Говоря современным языком, между эмиссаром Москвы и руководителем учреждения прикрытия было достигнуто разумное и достаточное равновесие.
Вся нужная информация сосредотачивалась в Стамбуле. Кто мог проникнуть в столицу Оттоманской империи? Купцы и монахи. Оставалось только найти к ним подход и уговорить их выполнять тайные поручения. Золото и православие – материальная и идеологическая основа вербовки – сыграли тут решающую роль. Сам Василий Лупа, приодевшись в московские собольи, песцовые и куньи меха, и глава молдавской православной церкви помогали организовывать регулярную добычу информации о положении в турецком и польско-литовском лагере. В Москву полетели доклады об обстановке на российской границе, о содержании антирусских выступлений в сейме Польши в 1642 году, о планах крымских татар сделать набег на Россию, о коварстве литовских князей и их сговоре против московского царя.
Нащокин возвращался из Молдавии не только с приятными воспоминаниями о добрых и преданных союзниках, но и вёз личное послание В. Лупы к московскому царю, в котором молдаванин писал: «Где ни услышу де какое дурно к Его царскому Величеству, или што де мне укажет Его царское Величество, и аз де готов ему, государю, головой своей служить.» Основа присоединения Молдавии к России была уже заложена, оставалось лишь ждать момента, когда Россия станет настолько сильной, чтобы быть в состоянии защитить своих союзников.
Не успел Нащокин отдохнуть после своей поездки в Молдавию, как ему снова пришлось собираться в дорогу. Над Москвой сгущались тучи большой войны: на западных границах государства появились признаки совместного выступления Польши и Дании. С Польшей было более-менее ясно, но с какой стати в лагере противников России очутилась Дания, Москве было не совсем понятно. Афанасий Лаврентьев поспешил прибыть на место и приступить к выполнению царского поручения, исходившего теперь уже от Алексея Михайловича.
Времени на раздумье не было – первые польско-датские отряды уже накапливались на восточной окраине Речи Посполитой, и их выступления против России можно было ожидать со дня на день. Если в Молдавии Нащокина выручили православные иерархи, то почему бы не обратиться к ним за помощью и на сей раз? Как известно, в Литовском княжестве, наряду с католической, существовала сильная православная церковь, настроенная весьма дружелюбно к Москве, и Нащокин поехал в Вильно и встретился там с архимандритом Духова монастыря Никодимом. Архимандрит согласился выведать планы Польши и Дании и отправился в Варшаву. Некоторое время спустя в Москву было отправлено «затейливое», то есть шифрованное, письмо, в котором говорилось: «Дания не намерена ссориться с Россией из-за неудавшегося сватовства принца Вольдемара к русской царевне Ирине Михайловне, а поляки в одиночку на нас не нападут – кишка тонка». В Москве перевели дух – одной угорзой стало меньше.
Следующая серьёзная миссия, которая выпала на долю «русского Ришелье»15, была связана с усмирением Псковско-Новгородского бунта, возникшего в 1650 году из-за обычного русского своекорыстия, дикого невежества населения и запоздалых действий властей.
История бунта восходит к Столбовскому договору. По этому грабительскому для России трактату к Швеции вместе с населением отошли некоторые новгородские земли, и когда шведы взялись проводить там политику ассимиляции и принуждать русских принимать лютеранскую веру, то многие из бывших новгородцев стали убегать и укрываться в русских пределах. Согласно этому же договору, Швеция и Россия обязывались всех перебежчиков задерживать и возвращать обратно. У русских не хватило совести депортировать своих соплеменников к шведам, и Москва договорилась со Стокгольмом не выдавать своих братьев шведам, а платить за них денежный и натуральный (зерном и хлебом) выкуп.
Осенью 1650 года случился недород, и цены на хлеб вздорожали. Купец Емельянов, которому московское правительство поручило скупку хлеба на выкуп русских беженцев, под предлогом «соблюдения царской выгоды» и очевидно не без ведома местных властей решил на этом заработать и установил на вывоз хлеба из Пскова монополию. Он просто-напросто запретил продавать хлеб всем другим купцам. Естественно, в городе возникло недовольство, зароптали чёрные люди, возникли слухи, что бояре «сдружились с иноземцами, вывозят зерно за границу и хотят оголодить русскую землю». Кто-то сообщил, что в Псков из Москвы едет швед и везёт деньги для бояр.
И правда: агент шведского правительства Нумменс как раз возвращался через Псков из Москвы домой с двадцатью тысячами рублей, полученными в счёт компенсации за русских перебежчиков. На улицах Пскова раздались крики: «Немец едет! Везёт казну из Москвы!» Когда Нумменс подъехал к Завеличью, где стоял гостиный двор для иноземцев, народ схватил его во «всенародной избе», отнял деньги и посадил под стражу. Потом толпа бросилась к дому Емельянова, но монополист успел скрыться. Тем не менее, в его доме нашли царский указ на откуп зерна, в котором было написано, что «сей указ тайный, и штобы этого указа никто не ведал».
Всё это только подтверждало подозрения народа в том, что дело с откупом не чисто, и псковитяне приняли свои меры. Перво-наперво, они прогнали воеводу Собакина и установили в городе свою власть, после чего отправили в Москву челобитчиков с жалобой. Царь-де выслушает посланцев и рассудит по справедливости. В числе челобитчиков находился Ордын-Нащокин, «случайно» оказавшийся в это время в Пскове.
Аналогичная история произошла в соседнем Новгороде. Туда в это время случайно заехал датский посланник Граб, но его приняли за «шведа с царской казной», и началась обычная «гиль»: посланника, как водится, схватили, обобрали, избили и посадили в кутузку. Во главе народного правительства Новгорода встал приказный человек митрополита Никона Иван Жеглов, а воеводе Хилкову выразили недоверие. Жеглов тоже отправил в Москву челобитчиков, которые утверждали, что датчанин Граб со своими людьми первый напал на новгородцев, а они только защищались. И в Пскове и в Новгороде жители целовали крест на том, «чтобы всем стоять заодно, если государь пошлёт на них рать и велит казнить смертью, а денежной казны и хлеба за рубеж не пропускать».
Митрополит Новгородский Никон, уже тогда славившийся своей суровостью и справедливостью – качествами, мало популярными в русском народе, наложил на всех бунтующих проклятие. Такое огульное осуждение со стороны церковного иерарха всех «честных людей новгородских» только ещё крепче ожесточило и сплотило бунтовщиков. Когда Никон вышел в народ и стал уговаривать мятежников «остепениться», те ответили кулаками, камнями и улюлюканьем. «Великое наше солнце сияющее», – писал митрополит в письме царю, – “ и ныне лежу в конце живота, харкаю кровью, и живот весь распух; чаю скорой смерти, маслом соборовался».
Никон выжил, чтобы «прославиться» в истории своими церковными реформами на посту патриарха России, а усмирять бунт псковичей и новгородцев пришлось долго. Царь менял воевод, посылал войско во главе с князем Иваном Хованским, давал обещания, грозил, объяснял причины вывоза хлеба и денег в шведские земли, обращался за помощью к церкви, но бунтовщики не сдавались: они не пускали в города царских представителей и требовали возвращения из Москвы своих челобитчиков.
В конце концов, бунт был подавлен с минимальными для населения жертвами. Народ, включив Афанасия Ордын-Нащокина в свою делегацию жалобщиков, однако не догадывался о том, что, пользуясь доверием своих земляков и царя, Нащокин играл двойную игру: сдерживая экстремистские настроения бунтовавших, он одновременно настоятельно рекомендовал Тишайшему не применять крайних мер по отношению к ним, а использовать политику кнута и пряника. Царь внял уговорам третея Нащокина, стал маневрировать и в конечном итоге с его помощью переиграл своих оппонентов. Опочкинский дворянин, мотаясь между царём и народными представителями Пскова и Новгорода, сумел-таки добиться нужного компромисса. Правда, откусить от царского пряника бунтовщикам не удалось, а вкусить кнута смогли достаточно. Но по сравнению с карательной экспедицией, которую к новгородцам в своё время снарядили Иван III с Иваном IV (Грозным), это наказание было просто детским.
Понятное дело, за время работы в Посольском приказе Нащокин изрядно насмотрелся на нравы и обычаи бояр и думных дворян, окружавших царя, и был об их способностях не очень высокого мнения. Самолюбивый до чрезвычайности, жёлчный и неуживчивый, Нащокин везде и всюду выставлял себя перед царём единственно умным и способным человеком в государстве, бранил и унижал бояр и дьяков, вооружал против них Тишайшего и потому был всеми ненавидим. Служилые всех званий и чинов, по его словам, не видели «стези правды, и сердце их одебелело завистью». Все они погрязли в местничестве, воровстве, взятках и казнокрадстве, и он открыто презирал их за это и тоже люто ненавидел. Противники вовсю старались подставить ему ножку и уличить перед царём в «неверной» службе.
«Государево дело ненавидят ради меня, холопа твоего», – писал он не без напускного смирения царю вслед поступившему на него очередному доносу врагов своих. – «Прошу тебя, государь, откинуть от дела своего омерзелого холопа».
Но Нащокин продолжал оставаться в фаворе у Алексея Михайловича ещё некоторое время. Своей любовью к Польше и всему польскому «русский Ришелье» оказал, однако, медвежью услугу царю и России, переориентировав военные усилия русской армии с Польши на Швецию.
Нащокин был осторожен, предусмотрителен и весьма недоверчив к людям. В пик своего фавора у царя он даже удостоился титула «царственныя большия печати и государственных великих, посольских дел оберегатель». Но это было потом, а пока, с началом военных действий в Лифляндии, Афанасия Лаврентьевич вернулся к себе в Псков. Вскоре он был назначен воеводой отвоёванного у Литвы города Друи и начал играть ведущую роль в военно-дипломатических действиях России в Прибалтике. В период русско-шведских мирных переговоров в Валлисаари карьера «русского Ришелье» продолжала ещё подниматься круто вверх, а основные его деяния на дипломатическом и разведывательном поприще предстояло ещё совершить.
Посольский Приказ; а в нём сидит думный дьяк, да два дьяка, подьячих 14 человек. А ведомы в том Приказе дела всех окрестных государств, и послов чюжеземных принимают, и отпуск им бывает, а также Русских послов и посланников и гонцов посылают в которое государство прилучится… Да для переводу и толмачества переводчиков Латинского, Свейского, Немецкого, Греческого, Польского, Татарского и иных языков с 50 человек, толмачёв 70 человек…
…Нарва, по сравнению с Вильно, была городом небольшим, но европейским с правильно спланированными улицами, черепичными крышами, ратушей, торговой площадью и толстенной, выстроенной по всем правилам фортификации, крепостной стеной. В городе преобладало шведско-датско-немецкое население, а местные эстонцы и чухонцы в основном находились в услужении у первых.
Валлисаари располагалась в нескольких верстах от Нарвы и являлась во всех отношениях резким контрастом к тем удобствам, которые Котошихин видел в Вильно. Однако свеи русское посольство в Нарву не допускали, а более крупных населённых пунктов, где можно было бы расположиться русскому посольству, не оказалось. Вот и кочевали князь Прозоровский да окольничий Ордын-Нащокин со товарищи из одной деревни в другую, меняя одну грязную постель на другую и подставляя свои белесые дородные телеса то валлисарским, то пюхестекульским, то тормсдорфским клопам. По злости и повадкам все эти клопы принадлежали к одной породе – в этом Гришка Котошихин скоро убедился самолично.
Князь Прозоровский числился послом царя лишь номинально. На практике все дела вершил доверенное лицо Тишайшего окольничий Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин. Котошихин нашёл его в деревне Пюхестекуле. Стоял декабрь, когда в Ливонии устанавливается самая неустойчивая погода, когда с вечера может ударить крепкий морозец, а к утру с моря подует сильный ветер, нагонит низкие свинцовые тучи, из которых, словно из дырявого решета хлынет дождь со снегом. И тогда ноги из лифляндской грязи не вытащить.
Въехав в деревню, Котошихин обнаружил её совершенно пустой, и показать ему местонахождение Нащокина никто не мог. Он долго стоял в раздумье, пока за спиной не услышал крики и брань. Два рейтара тащили на веревке упирающуюся тёлку, за ними шла чухонка и ругала их, на чём свет стоит на своём языке. Затянувшаяся военная кампания съела все ливонские припасы, подвоз харча из Новгорода и Пскова был не регулярным, поэтому снабжение армии, согласно обычаям того времени, ложилось на местное население.
Котошихин спросил, где можно найти своего будущего начальника, и один из рейтаров, не выпуская из рук коровьего хвоста, кивком головы показал ему на нужный дом. Промокший и иззябший, Котошихин слез с замытаренного долгой дорогой коня у самой большой избы, на которую ему указали, и заспанный челядник провёл его внутрь. Когда Григория вошёл в жарко натопленную комнату, царский любимец ходил из угла в угол и надиктовывал писцу свои мысли, чтобы использовать записи при составления грамот или памятец на имя царя:
– «Обычаи некоторых королей заключать союзы с республиками и вместе ополчаться против христианских же самодержцев можно называть не иначе, как безрассудными.» Написал? – Ордын-Нащокин, не обращая внимания на вошедшего Котошихина, подошёл к сидевшему за отдельным столом писцу и склонился вместе с ним над бумагой. – Не поспеваешь? Экой ты растяпа! «Не иначе» написал слитно, «безрассудными» – разбил на два слова! И кто только тебя учил грамоте? Ладно, потом перепишешь, записывай дальше: «А ещё надобно было бы соединиться всем европейским государям, чтобы уничтожить все республики, которые есть не что иное, как матери ересей и бунтов». Написал? Далее: «Также мыслю, Великий Государь, что для пущего закрепления здешних земель за Москвою и умиротворения порядков было бы полезно набирать солдат из таможильцев и исполнивать ими наше поредевшее войско. Охотники имеются, да и где нужно, можно и силу применить». Всё, на сегодня хватит. Иди отселева, надоел.
Писец молча собрал свои принадлежности и, пятясь задом, исчез за дверью.
Ордын-Нащокин проводил писца недовольным взглядом, обернулся, наконец, на Котошихина, прищурив хитрые глазки:
– Видал, каков грамотей? – произнёс он тихим дребезжащим голоском. – Ты и будешь подьячий Григорий Карпов сын Котошихин? Наслышаны мы о тебе и о твоей службе при князе Одоевском, наслышаны. Государю нашему вельми нужны прямые и исправные слуги. Смотри, служи мне честно, а будешь кривить – себе же хуже сделаешь. – Котошихин приложил правую руку к сердцу и в знак своего будущего усердия поклонился. – Похвально, что владеешь польским и немецким языком, но надобно приобщаться и к свейскому наречию. Мне нужны крепкие поручители и искусные толмачи, – продолжал дребезжать Нащокин. – Грамоты писать умеешь ли?
– Приходилось, ваша милость. Начинал в Посольском приказе писцом, а потом подьячим, сподобился и в посольстве князя Никиты Одоевского составлять царские грамоты.
– Ну, вот и добро. Сам-то из каких будешь?
– Из обедневших мы, из дворян…
– Ништо! Сам таков! Главное, как ты склонен к делу. А то у нас любят али ненавидят дело, смотря по человеку, который его делает. Меня вот не любят, и делом моим пренебрегают. А работы тут – непочатый край, аж самому приходится корпеть над письмами. Вот и ослобонишь меня от этой маяты. Ты вот что: сейчас тебя определят на постой, приди в себя маленько да принимайся за работу. К тебе приведут человечка одного, он по-нашему ни бельмеса, зато по-немецки разумеет. Ты запиши слово в слово, что он расскажет. Справишься?
– Да что тут особенного? Делов-то…
– Нет, любезный, дело это наиважнецкое и тайное. Запишешь его слова – и забудь про него, а сказанное сохрани вот здесь. – Нащокин стукнул себя рукой по груди. – Никто, кроме тебя знать не должен, о чём он поведал, и что ты записал. Смекаешь? Дело-то государственное!
Нащокин приблизился к Котошихину и последние слова не говорил, а прошептал в ухо. Гришка почувствовал, как по спине пробежал холодок. Приобретённый за эти годы опыт свидетельствовал, что приобщение к государственным тайнам сулило одни только неприятности. Но он твёрдо, как учил когда-то отец, ответил:
– Не изволь беспокоиться, ваша милость. Я умею хранить тайны.
– Истинно говоришь, отрок? Не лукавишь?
– Не приучен, ваша милость.
– Ну, тогда забирай перо и чернила и ступай.
– Слушаюсь, ваша милость.
Котошихину выдали месячное верстанье из рассчёта 13 рублей в год, челядник отвёл его в соседнюю избёнку, где грязный нестриженый и небритый чухонец определил его в заднюю комнату. На деревянной кровати была постелена незамысловатая постель, рядом на грубо сколоченном столе стоял жбан с водой и кружка, под столом была спрятана табуретка. Подьячему было не привыкать к такой обстановке, и в Москве и в Вильно он не был избалован роскошью и комфортом. Единственное, по чему истосковалось его молодое тело, была баня. Вот чего ему сейчас не хватало, но разве чухонцы смыслят что в парилке?
Умывшись с дороги и отведав чашку какого-то варева, принесённого хозяйкой, он, было, прилёг на кровать отдохнуть, но в дверь постучали, и в комнату вошёл хозяин-чухонец:
– К вам гости.
Гришка вскочил с кровати, пригладил на голове волосы, оправил кафтан и приготовился к встрече. Тот же челядник Нащокина, который определил его на постой, ввёл в комнату средних лет мужчину, одетого в немецкое чистое платье и гладко выбритого.
– Согласно уговору, – бросил челядник и оставил Гришку с незнакомцем наедине.
Гришка пододвинул гостю табуретку и предложил ему сесть. Тот ответил благодарностью на немецком языке, осмотрел гришкины «хоромы», сел с большим достоинством и приготовился рассказывать.
– Не торопись, любезный, сей секунд. Я только заправлю чернильницу и достану перо. – Котошихин взял с мокрого подоконника высохший пузырёк с чернилами, плеснул в него из стоявшей рядом бутылки чернил, достал ножичек, ловко и быстро зачинил гусиное перо, уселся на кровать, пододвинул поближе к себе стол, чтобы удобнее было писать, и сказал:
– Валяй, немец, рассказывай. – Каким-то шестым чувством Гришка почувствовал зависимое положение своего гостя, а потому принял в разговоре с ним развязный тон.
– Я не немец, а швед, – поправил без всякой обиды незнакомец, терпеливо ожидавший момента, когда, наконец, этот русский закончит свои приготовления.
– Для меня всё едино: швед ты или немец. Главное дело, речь твоя немецкая.
– Я могу говорить и на своём языке, если господин того пожелает, – предложил тот с достоинством.
– Нет уж, давай сказывай на немецком, мы тут свейскому языку не обучены.
– И напрасно, господин, очень напрасно. Русским людям знание нашего языка в скором времени ой как понадобится.
– Вот когда понадобится, тогда и выучим.
Швед неодобрительно посмотрел на Котошихина и решил дискуссию на этом прекратить:
– Я готов. Записывай. Войско шведское состоит из пехоты, кавалерии и артиллерии. Всего в Эстляндии и Лифляндии риксмаршал Хорн имеет около 8 тысяч, включая три полка пехоты, полк кавалерии и около 300 пушек, половина которых бронзовые, а половина – железные. Пехота состоит из пикинеров и мушкетёров, набранных в основном в Финляндии и других странах, однако офицерами при них состоят шведы. Каждый полк имеет в своём составе по 2 эскадрона, в эскадроне – 4 роты, из 8 рот в полку – 3 роты мушкетерские. Написал?
– Не гони, не успеваю за тобой!
– Торопись! Времени у меня мало. Пошли дальше. Кавалерия, как и пехота, делится на полки, эскадроны и роты. Она состоит в основном из драгун. Драгуны – суть те же мушкетёры, посаженные на коней. У каждого драгуна – своя лошадь, а у офицеров, смотря по чину, от 2 до 12. Записал? Теперь добавь об артиллерии: пушки стреляют ядрами и гранатами, каждое орудие обслуживается 1—2 канонирами. В основном пушки крепостные и установлены во всех десяти крепостях, кроме Вастселийны и Алуксне. Всё войско рассредоточено по крепостным гарнизонам, их, как я уже сказал, десять. Примерно половина всей пехоты, кавалерии и артиллерии находится в Риге.
– Вона как! Потому мы зубы-то и поломали об неё!
– Не только, – спокойно возразил швед. – Если бы не было постоянного подвоза питания и снаряжения с моря, крепость бы сдалась. Вам нужно завести флот на море, чтобы воспрепятствовать связи Стокгольма со здешними крепостями.
– Флот? – удивился Гришка. – Флот – это не для нас. Мы к нему не приучены.
15
Характеристика А. Л.Ордын-Нащокина, данная историком В.О.Ключевским.