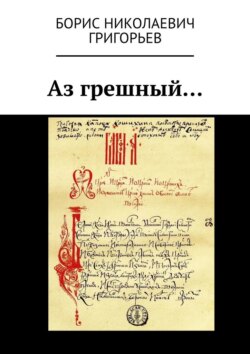Читать книгу Аз грешный… - Борис Николаевич Григорьев - Страница 6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Верные люди гетмана Гонсевского и князя Одоевского
ОглавлениеВси сии мудри быша и во ад угодиша.
Протопоп Аввакум, «Книга бесед»
А в нынешнюю службу от лета 1651 года, за продолжением Польския войны, многие люди рейтары и солдаты, на боех и приступах, и сидячи в осадах, и стояв долгое время многими розными городами, с голоду померли…
…Где-то в лесах скрывался гетман Гонсевский, он делал оттуда вылазки на русское войско и даже осмеливался показываться в непосредственной близости от Вильно. Воевода Данило Мышецкий напрасно гонялся за гетманом, устраивал ему засады и подсылал к нему своих соглядатаев. Литовцы ловко маневрировали и то и дело меняли свои позиции, приспосабливаясь к быстро меняющимся событиям, а князь просто не успевал во всём этом во время сориентироваться. Пока гонец доскачет до белокаменной, пока он дождётся приёма у царя, пока дьяки да стряпчие в Посольском приказе разберутся, в чём дело и придут к какому-нибудь мнению, пока гонец с царскими указаниями доберётся обратно в Литву, глядишь, эти указания уже и устарели.
– Что ж мне теперь – клопов ею давить, этой царской грамотой? – хотелось закричать Мышецкому во весь голос, но он сдерживался. Не только вслух произнести такие слова, но и думать так опасался. Упаси Бог проговориться во сне! Вмиг донесут царю. Слово и дело государево!
Князь Никита Одоевский сидел в душной и тесной каморке с тусклыми оконцами, выходящими на узкую грязную улочку, и проклинал тот час и день, когда согласился возглавить русскую делегацию на переговорах с поляками. Он торчал в Вильно уже больше года, но мирного докончания, которого так жаждали в Москве, он так пока и не добился.
Обещание литовцев и поляков избрать на польский трон московского царя оказалось лишь хитрой уловкой, предназначенной для того, чтобы остановить успешные боевые действия в Литве войска царя и получить передышку. Князь со товарищи и вкупе с сыновьями Фёдором и Яковом не сумел разгадать коварного замысла и чуть было не попал в опалу к Тишайшему. Но Бог миловал, и теперь речь уже не шла о том, чтобы посадить на польский престол московского царя – надо было бы хоть как-то замириться с панами, чтобы высвободить силы для войны с королём свеев.
За окном моросил мелкий и противный дождик, в доме тоже сырость, на душе одна сумрачность, а у этих литовцев даже дров, чтобы растопить печь, не выпросишь.
То ли дело сейчас в Москве: приказал бы растопить мыльню, принести из погреба холодного клюквенного кваса, снять со стрешни парочку мягких берёзовых веничков да велел бы Афоньке-ключнику с чувством и толком пройтись ими по грешным телесам своим. А после баньки, выбивши всю лишнюю дурь из-под толстой кожи, обливаясь потом, вприпрыжку – скок-скок в смежный теремок к Евдокеюшке под бочок!
Истосковалось, ох как истосковалась плоть по сладостно-мучительному истязанию! Как она там его любушка без него пропадает? Хозяйство, небось, всё захирело, если вовсе не разворовано и не разграблено. А может, прибрала всех сродственников и челядь зараза, прилипшая к Москве несколько лет подряд? Сказывают, на боярских дворах живых осталось меньше, чем погребенных. Города и волости опустели – всех снесли на погосты. Куда же смотрит Всевышний? За что такая напасть на православное христианство? Откуда пошло нелюбье на Руси?
А от царя-то благодарности не дождёшься, да и на подарки он не так уж горазд. Сызмальства находится рядом с царём – начинал ещё стольником первой статьи при отце его Михаиле Фёдоровиче, и рындой с бердышем у трона стоял, потом командовал войском, воеводствовал в Астрахани, руководил подготовкой Соборного Уложения, опять воевал, до комнатного боярина дослужился – а всё не угодишь. Такова уж царская служба: сегодня шуба с царского плеча, а завтра за самое малое неисправление – своя голова прочь. Так и ходишь по лезвию ножа, того и гляди, свалишься в пропасть. Господи, если бы знать, как и где угодить, не ошибиться и не прослужиться! Но разве может кто проникнуть в промыслы государевы? Хотелось от обиды топать ногами, от тоски и безделья – реветь белугой, а от безысходности – сорвать на ком-нибудь злость.
Главное, не с кем слова молвить в этом медвежьем углу. Сын кровный Федюшка заболел в одночасье и тут же в Вильно помре на его руках. Яков в войске находится, а он остался один-одинёшенек. Вон Ванька Прозоровский, слышь, назначен вести переговоры со свеями. Ему хорошо там в Валлисаари – ему в помощники Бог сподобил дать самого окольничего Афанасия Лаврентьевича Ордын-Нащокина. Сам Ванька-то дурак-дураком, кроме курицы да коровы, никаких иноземцев отродясь не видал, но зато Нащокин молодец, башковит да умён, все науки прошёл, всё знает, всё умеет: и как к чужеземцу подобраться, и чем и как его прельстить, как тайну заветную у него выведать, какую грамоту царю отписать и что его царскому величеству посоветовать. Вот князь-то Прозоровский с ним как у Христа за пазухой. А у него, Никиты Ивановича, никаких таких помощников нету и не предвидится. Правда, числится в его свите подьячий Гришка Котошихин, он и на перо боек, и по-польски кумекает и вообще холоп сообразительный, но не будешь же впускать в свои мысли какого-то безродного дворянишку Котошихина! Прозвание-то какое имеет: Ко-то-ши-хин!
– Стёпка! – зычно закричал Одоевский. – Стёпка! Поди сюды немедля!
За дверью послышался шум и топот, дверь скрипнула и в проёме показалась кудлатая голова слуги – лицо смиренно, а в глазах – бес.
– Я туточки, ваша княжеская милость!
– Подойди поближе: что же мне кричать тебе через всю горницу что ли?
Стёпка, парень лет двадцати, медленно и с опаской вошёл в покои и остановился посредине.
– Что стал-то? Не бойсь, иди, не съем авось!
– Ага, как же! – ответил Стёпка. – Намедни так отодрали, что и по сей день ухо горит.
– А ну-ко ся нишкни! Ишь какой шустрый стал. Вот отправлю обратно домой да сошлю в деревню – там скоро узнаешь, почём фунт лиха. Драл тебя за дело. Следующий раз не забывай, дурак, почистить сапоги как следует. Господин твой – посол самого царя московского Алексея Михайловича, разве может он перед всей голозадой чужестранщиной в грязных сапогах появляться?
– Никак не можно, ваша княжеская милость – это позор!
– Вот то-то и оно – позор! Ну да ладно, ухо заживёт до свадьбы. Пришли-ка ты ко мне Гришку Котошихина.
– Слушаюсь, князь Никита Иванович!
Стёпка ушёл, а царский посол стал глядеть в потолок и задумчиво чесать бороду. То, о чём до обеда рассказал ему подьячий, крепко засело в голове. Надо было как-то решаться, тем более что успех предприятия обещал, возможно, крутой поворот в переговорах, конец его долгого и бесплодного сидения в Вильно, царские милости и почести от бояр. Но ежли это всё ловушка литовцев и поляков, ежли это хитрая подлость, задуманная для срыва переговоров, то тогда ему не сносить головы. Надо было решать, а решать князь привык только за себя и за своё добро. За государство в России решал царь, а его холопам дозволялось только думать и советовать. Вся заковыка и заключалась в том, что думать и советовать было некогда, а решать надо было немедля, сейчас.
В дверь постучали, и в комнату заглянуло озорное лицо Стёпки:
– Вот он, ваша княжеская милость, Григорий Карпович Котошихин собственной персоной!
– Сгинь, насмешник! – взвизгнул Никита Иванович. – Ишь взял за правило литовские куртуазии выделывать! Нам этого не надобно. «Собственной персоной!» Заходи, Григорий, я давно тебя жду.
Стёпка ухмыльнулся и исчез, а в комнате появился Котошихин. Он подошёл к столу, за которым сидел посол, и молча поклонился.
– Садись, чего стоишь? В ногах правды нет. – Одоевский не был грубым крепостником и неотёсаным мужланом – во всяком случае, к Котошихину Одоевский относился с опасливым уважением, потому что тот был один из самых дельных и способных членов делегации. Жаль только, что возрастом и чином не вышел. А может, он вовсе подослан Дементием Башмаковым соглядатайствовать за ним, потому и ходит гоголем? А с Тайным приказом шутки плохи.
– Покорно благодарю, ваша княжеская милость, но мне сидеть в твоём присутствии негоже. Я уж постою.
По лицу Одоевского пробежала едва заметная гримаса неудовольствия, но он был всё-таки дипломатом, а не каким-нибудь калужским бирюком и потому словесами своего неудовольствия не выдал.
– Ну что ж, постой, раз тебе так сподручней, – мягко согласился он. – Я что тебя позвал: доложи-ка мне ещё раз, что с тобой утром приключилось.
– Изволь, князь Никита Иванович. Однако, я вряд ли что скажу тебе нового. Вышел я, как всегда, прогуляться и зашёл в торговые ряды, посмотреть, чем там торговые люди торгуют. Залюбовался я конским нарядом арабским, остановился и попросил купца показать. Купить-то я все равно не смог бы, потому как больно дорог, а вот подержать в руках, пощупать – не удержался. У нас дома таких не делают. Смотрю, любуюсь, а купец стал на меня наскакивать и бормотать что-то по-своему, по-бусурмански. Я понял, расхваливает свой товар, предлагает купить, значит. Я только улыбаюсь и молчу, а он всё лезет и лезет, возьми, мол, не пожалеешь. И тут слышу из-за спины голос чужой: «Что, москаль – понравилось?» Сказано это было по-русски. Оборачиваюсь – и вижу вроде знакомое лицо, а кому оно принадлежит, убей Бог, не вспомню. Понравилось, говорю, вещь хорошая, только дороговата для меня. Ну, отвечает тот, этому можно помочь, а сам так глазами и зыркает, так и играет! Я молчу, возвращаю упряжь купцу и иду дальше своей дорогой, а незнакомец не отстаёт, догоняет меня и идёт рядом. Я, говорит, точно знаю, кто ты, зачем здесь и чем занимаешься. Ты, говорит, сподручный у князя Никиты Одоевского, а зовут тебя Григорием Котошихиным, а что денег у тебя нет, это понятно, казна-то московская оскудела от всяких войн, вот царь тебе и не платит.
– Потише ты с этими словами, неровен час услышит кто, – зашикал на рассказчика князь.
– Да, – продолжил Котошихин, значительно понижая тон, – вот царь-де вам шиш платит. Это, отвечаю, не твоё собачье дело, как государь вознаграждает слуг своих. Сам-то, спрашиваю, кто будешь. Сам-то я, отвечает, буду на службе пана Гонсевского, великого гетмана Литовского, а зовут меня Янушем Квасневским. И тут, ваша княжеская милость, я вспомнил, где эту харю усатую зрел. Изволь вспомнить, князь, нашу первую сходку с литвянами. Сей господин подносил нам на подносе чаши с вином фряжским. Одет он был в польский малиновый кунтуш и…
– Как же не помнить – помню! – уверенно сказал Никита Иванович, перебивая Котошихина. – Он ещё не по чину чаши сии раздавал. Первому, собака, подал не мне, послу московскому, а этой лисе императорской Але… Агре…
– Точно так, ваша княжеская милость, Алегретти, послу кесареву. Ну, так я продолжаю… Я ему – от ворот поворот, а он не уходит и своё гнёт. Мол, зря ты на меня собачишься, лучше вникни в моё предложение. Ладно, соглашаюсь, излагай своё подлое предложение и уходи с глаз долой. И тут он мне зашептал на ухо, что, ежли, мол, кто-то из русского посольства сообщил бы ему тайным обычаем, о чём царь Алексей Михайлович пишет в своих затейных грамотах князю Одоевскому, али упреждал бы его о замыслах воеводы Мышецкого, то пан Гонсевский, мол, не постоял бы в цене и щедро вознаградил этого человека.
– Ах, он мерзавец, ах дьявол! – вскричал Одоевский. – Надо же такое умыслить в рассужденьи русского человека! В харю ему за это!
– Я так и поступил, ваша княжеская милость. Развернулся своей правой и со всей силы звезданул ему в ухо.
– Молодец, Григорий, истинно говорю, молодец! Это по-нашему!
– Квасневский отлетел в сторону, но не упал, а бросился ко мне с окровавленной рожей опять. Видать, я промахнулся и съездил ему не в ухо, а по носу. Но ничего, я замахиваюсь сызнова и думаю наградить его промеж глаз, а он кричит: «Стой, Котошихин, погоди не бей!» Уходи, кричу, а то зашибу ненароком до смерти – так я распалился, Никита Иванович, что готов был разорвать его на части. Стой, дурак, кричит, не того бьёшь, я-де зла на тебя не держу, знай, что я тебя испытывал. Гонсевский приказал-де подойти к тебе с прельстительным предложением, но ты мне по душе оказался. Гетману я скажу, что ничего, мол, у нас с тобой не вышло, а ты знай, что я, со своей стороны, готов помогать русскому посольству. Сказал так, вытер кровь на челе, повернулся и ушёл. Стой, говорю, подожди, где тебя найти-то? Захотите – найдёте, сказал он и исчез. Вот такая, значит, история.
– Да-а-а! – закряхтел князь. – Исто-о-рия! Что делать-то будем, Григорий?
– Мыслю я так, ваша княжеская милость: мне надобно снова с ним встретиться и поговорить начистоту, чего он хочет и какую пользу может принести нам.
– Это я уже слышал. А что если литвяне заманивают нас в петлю? Ишь ведь всё как повернулось: то деньги предлагал от Гонсевского, а то вдруг переметнулся на нашу сторону. Чудно всё это, истинный Бог, чудно.
– Так бывает, Никита Иванович. Чую я, что Квасневский нас не обманет. В случае чего мы сперва сыщем, за кого он себя пролыгает, а как удостоверимся, что не обманывает, так и в пользу пустим. Сдаётся мне, князь, мы тут не проиграем.
– Тебе легко говорить «не проиграем». Ответ-то кто держать будет? Чьи денежки Квасневский получать будет? Были бы у меня свои, я бы не пожалел их, а то ведь деньги-то казённые, тратить их без спроса не положено.
– Почему не положено? Положено, – уверенно ответил Котошихин. – Но не более двадцати рублёв зараз. И сумма на эти дела тебе отпущена – две тысячи рублёв.
– А откудова тебе это известно, холоп? А? Говори!
– Не вели казнить, князь, ненароком вычитал в царской грамоте.
– Ненароком? Я вот прикажу сейчас тебя выпороть батогами, будешь потом знать, как ненароком подглядывать за царём и царским послом!
Котошихин упал на колени и сказал:
– Прости, ваша княжеская милость, Христом Богом клянусь, я никому не говорил об этом и не скажу. Останется тут навеки. – Для пущей убедительности подьячий стукнул себя в грудь.
Князь долго и внимательно смотрел на Котошихина – навроде не похож на соглядатая Башмакова, потом подошёл к нему поближе, взял за лицо, повернул его к себе, опять долго сверлил его своим колючим взглядом, бросил, отошёл и кратко бросил:
– Ладно, встань. Прощаю тебя на сей раз. Но строптивость свою, Гришка, умерь. Иначе не сносить тебе головы. Теперь слушай: сыщи этого Квасневского, поговори с ним и прощупай, как следует. Потом вернёшься, доложишь, будем вместе думать, как поступать. Иди!
– Премного благодарен, вашей княжеской милости. – Котошихин подбежал к князю, поймал его руку и поцеловал. – Я, князь, добро помню. Можешь смело надеяться на меня, как на себя. Мы, Котошихины, люди не родовитые, зато прямые и честные.
– Поживём – увидим, – пробурчал посол и махнул рукой. – Иди, время не терпит.
Котошихин ушёл и сгинул с концами. Никита Иванович все гляделки проглядел, сидя у окна, но Гришки и след простыл. Стало смеркаться, и Одоевский велел Стёпке зажечь свечи и принести ужин с холодными закусками. Закуски были съедены и запиты вином, а посланный всё не шёл и не шёл. У князя стали появляться нехорошие мыслишки: уж не предался ли его подьячий полякам? Он велел постелить себе на лавке и попытался подремать при свечах, но кусали клопы, так и провертелся на лавке до самого утра. Сон одолел, когда стало светать, и тут сразу раздался стук в дверь. В комнату просунулась кудлатая заспанная физиономия Стёпки:
– Ваша княжеская милость, проснитесь! Григорий Карпович явился, да не один, а с каким-то литвином!
– Свят-свят-свят! – засуетился князь, вскакивая с лавки и приводя себя в порядок. – Чтой-то он сразу так, без предупреждения?
– Не могу знать, ваша милость.
Посол зевнул, перекрестил рот и строго сказал:
– Пущай войдут.
За окном прокричали вторые петухи, в каморку заглянули первые косые лучи солнца, во дворе начинался новый день. Дверь распахнулась, и на пороге появился Котошихин, а за ним – статный литовец, одетый в богатое польское платье.
– Вот, князь Никита Иванович, привёл к вашей милости важного человека.
Литовец сделал несколько шагов вперёд, сделал глубокий поклон и представился:
– Януш Квасневский, владелец Паневежской усадьбы.
Одоевский набычился и ответил еле заметным надменным поклоном:
– С чем прибыл до нас, пан Квасневский?
– Имею честь предложить свои услуги вашей милости и русскому войску.
– Похвально, похвально. – Выражение лица Одоевского несколько смягчилось, и он пригласил Квасневского и Котошихина к столу. – Садись, ясновельможный пан, и ты, Григорий, тоже. Усядемся рядком да потолкуем ладком. Слыхали мы о вас, пан Квасневский, как же, как же…
– Весьма польщён, князь, что моя скромная персона заинтересовала вас.
– Ну, уж не прибедняйся, пан Квасневский, ведь ты никак в доверенных лицах у самого гетмана литовского ходишь!
– Это так, княже, отрицать не стану.
– И где же сейчас твой гетман обретается? В каких местах?
– Это совсем недалеко от Вильно. Если вы мне доверяете, я могу показать.
– Доверять-то доверяем, – Одоевский переглянулся с Котошихиным, и тот еле заметно кивнул головой, – но мы и проверить можем. Ежли, к примеру, мы отведём тебя к воеводе Даниле, так поможешь ему поймать Гонсевского?
– Помогу.
– Никита Иванович, он готов хоть сейчас выехать к месту, – первый раз вмешался в разговор Котошихин. – Мы обо всём столковались. Пан Квасневский желает поступить на службу к нашему государю.
– Это так, – подтвердил Квасневский. – За мной пойдут и другие фамилии. У нас многие желают служить царю московскому, а не королю шведскому Карлу.
– Дело говоришь, дело, – похвалил Одоевский. – Ну что ж, ежли ты готов, то Григорий Карпович отведёт тебя немедля к Мышецкому, а вы там обо всём тихим обычаем и сговоритесь. Годится?
– Так, – подтвердил Квасневский вставая. – Надобно поспешить, пока гетман не переместился на другие позиции.
– Вот и ладненько. А как закончите дельце, приходи ко мне с Григорием. Там и потолкуем, как дальше быть да куда плыть.
– Благодарим покорно, княже.
Квасневский встал, поклонился и вместе с Котошихиным вышел в сени.
Гетман Гонсевский вместе со своим отрядом через два дня был окружён русским войском в лесу и после короткой схватки схвачен и взят в плен. Позиции поляко-литовцев на переговорах с князем Одоевским после этого заметно смягчились. В Москву из Вильно был отправлен гонец с письмом, в котором князь Никита излагал мысли о способе достижения мирного докончания с поляками. Большая часть донесения была посвящена изложению первостатейной заслуги посла в деле пленения с помощью «верного человека» гетмана Гонсевского. Похвальные слова высказывались также и в адрес главного воеводы князя Юрия Долгорукого и воеводы Мышецкого, с которым посол водил дружбу ещё во времена Плещеева и Траханиотова. Плещеев и Траханиотов сгинули за взятки, казнокрадство и нанесение обиды народу русскому (царствие им небесное!), а дружба с Мышецким сохранилась.
Котошихин за дело Квасневского получил от князя Одоевского невнятную благодарность и вскоре по вызову Ордын-Нащокина был отослан в посольство князя Прозоровского в Валлисаари, что под Нарвой. Князь Никита только тогда по-настоящему оценил способности подьячего, когда тот садился на своего Буланку, чтобы тронуться в путь к новому месту службы.
В Валлисаари намечался перелом в русско-шведской войне. Обе стороны устали от бесплодного противостояния, и начались осторожные зондажи в направлении перемирия. Шведы направили в Москву комиссара Конрада фон Банера, которого принял дьяк Посольского приказа Алмаз Иванов. Оба дипломата договорились начать мирные переговоры, в связи с чем посла Густава Бъельке и членов его посольства выпустили из тюрьмы и отправили восвояси домой в Швецию.
21 мая 1658 года был заключен выгодный для России Валлисаарский договор, действовавший три года вплоть до заключения Кардисского мира и позволявший русским закрепиться в Прибалтике на завоёванных землях. Но, как всегда на Руси водится, закрепить свои военные успехи дипломатическими средствами Москве не удалось. Шведы не успокоились на этом и стремились подвергнуть Валлисаарское перемирие ревизии.