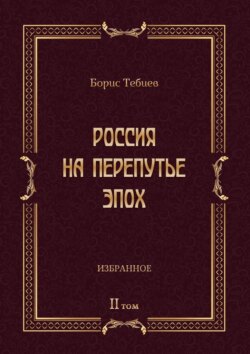Читать книгу Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II - Борис Тебиев - Страница 9
Очерк истории биржи в России
(1703—1914)
Работа выполнена совместно с кандидатом экономических наук
С. С. Щербининым
2. Петр I – основатель биржевой торговли в России
ОглавлениеВ отличие от стран Западной Европы, где биржевая торговля возникла, по сути дела, спонтанно, исходя из экономической необходимости, в России ее создателем стал Петр I. Разрабатывая и реализуя торгово-промышленную политику государства, Петр считал, что одной из причин экономической отсталости России XVII и начала XVIII века являлось отсутствие надежных хозяйственных, культурных и дипломатических связей со странами Западной Европы. Существенным препятствием при этом являлась оторванность России от Балтийского и Черного морей. Она придавала России статус сухопутной державы, не имевшей непосредственных выходов к морю, собственных портов, собственного морского флота. По образному выражению К. Маркса девизом Петра могли быть слова: «России нужна вода» [22].
От Балтийского моря Россия была отрезана шведами, захватившими в начале XVII века исконно русские земли по берегам Невы и Финского залива, от Черного моря – турками и крымскими татарами. Единственным морским портом к началу Петровской эпохи был сезонный Архангельский порт, крайне неудобный для связи страны с европейскими государствами. Путь в Западную Европу через Белое море был дальним и мог использоваться только в летнее время [23].
Петр немало сделал для отвоевания для России водного пространства и создания отечественного морского флота. За счет крайнего напряжения народных сил Россия в царствование Петра I превратилось из Московской Руси в Российскую империю, стала морской державою. Она получила несколько крупных портов на Балтике, обеспечивших связь с Европой, западное и южное побережья Каспийского моря, как путь для торговли с Востоком. Страна владела довольно сильным отечественным морским флотом.
Обеспечение открытых выходов к морским берегам, приобретение собственных портов, особенно на Балтике, создание отечественного морского флота имело для России крайне важное торгово-экономическое и геополитическое значение. Оно не только укрепляло оборонную мощь страны, но и обеспечивало расширение внешних торгово-экономических связей, крайне необходимых для России, ее суверенитета, национальной безопасности, культурного и технического прогресса.
При этом Петр отлично сознавал, что равноправная и взаимовыгодная торговля России с зарубежными странами может быть обеспечена лишь при условии создания в стране экономических и финансовых институтов, сходных по своим функциям с зарубежными. Как утверждают многие историки петровской эпохи, «Петр I обладал способностью перенимать у западных соседей лишь то, что считал необходимым и полезным» [24]. Используя экономический опыт развитых стран, Петр учредил в Москве в 1699 году Бурмистерскую палату (Ратушу) – государственный орган по сбору таможенных пошлин. В других городах были открыты земские избы, являвшиеся прообразом купеческих банков. Учреждение Ратуши и земских изб стало первым шагом к внедрению в Россию европейских форм государственной и торгово-промышленной деятельности. В начале XVIII столетия по инициативе Петра в России зарождается и биржевая торговля.
Создавая город на Неве, реформатор России мыслил широко и по-европейски. Будущая столица державы задумывалась им как европейский торговый и культурный центр. А какая же торговля без биржи! Все крупные европейские города к этому времени уже имели товарные и многие даже фондовые биржи. В этом Петр убедился во время своего посещения Западной Европы («Великого посольства») в 1697—1698 годах. Особое впечатление на него произвели Амстердамская и Лондонская биржи, куда стекались товары из многих стран мира.
Подписанный Петром I в 1703 году указ о создании Санкт-Петербургской биржи имел, как полагают многие исследователи, чисто символическое значение. Но это не так. Петербург того времени только начинал строиться и действительно напоминал скорее не город, а большой военный лагерь со своим «обозным» хозяйственным укладом. Бирже здесь было не место по определению. Однако она все-таки функционировала. Как свидетельствует один из первых историков отечественной биржевой торговли Г. А. Немиров, первые собрания петербургского купечества происходили под открытым небом, в торговых рядах, располагавшихся близ крепости у Петровского моста, рядом с первой торговой пристанью, принимавшей приходившие по Неве через Шлиссельбург суда [25]. Прибывший в 1704 году в Петербург первый английский корабль был приведен к бирже лично Петром. В 1705 году вместе со строительством новых торговых рядов было построено специальное здание для биржевых торгов, располагавшееся перед торговыми рядами.
Ярмарка феодальной России – почти та же биржа. Только слабо организованная, практически стихийная. Ярмарочный торг не исключал возможности плутовства, которым грешило русское купечество. Из воспоминаний иностранцев, посещавших Россию допетровских времен, известно, что нередки были случаи, когда, отгружая оптовому покупателю зерно, продавцы подсыпали в мешки речной песок «для тяжести». Дефицитный молотый красный перец продавали с добавками перетертого кирпича…
Характеризуя российское торговое сословие, американский историк Ричард Пайпс пишет: «Деловая психология русского купца сохраняла глубокий левантийский отпечаток. Здесь мы находим мало капиталистической этики с ее упором на честность, предприимчивость и бережливость. На покупателя и на продавца смотрят как на соперников, озабоченных тем, как бы перехитрить другого; всякая сделка – это определенное состязание, в котором каждая сторона рвется взять верх и забрать себе все призы. Нечестность московского купца была притчей во языцех, и ее постоянно подчеркивают не только иноземные путешественники, которых можно было бы заподозрить в предвзятости, но и местные авторы, включая первого русского экономиста и рьяного патриота Ивана Посошкова» [26].
Многочисленные свидетельства о жизни и делах российского купечества говорят об отсутствии в их среде «единодушности», о «разномыслии» и «всегдашнем несогласии», инертности и невежестве, «великой между собой ненависти» [27]. Весьма распространенным явлением на русских ярмарках были всякого рода притеснения, которым подвергались «маломочные» купцы со стороны купцов богатых. Мстя своим обидчикам, «маломочные» искусственно занижали цены на привозимые товары и подрывали тем самым торговлю богатым.
Учреждая биржу в новой российской столице, Петр I стремился внести новую струю в деловые торговые отношения, сделав их более открытыми, ограничить возможности бесчестного торга. Созданием биржи царь имел намерение внедрить передовые западноевропейские формы хозяйственной деятельности. Петр I полагал необходимым снизить торговые издержки, особенно в международной торговле, расширить внутренний и внешний товарооборот, вести учет спроса и предложения товаров, укрепить взаимное сотрудничество русских и иноземных торгово-промышленных кругов. Дело это оказалось нелегким, потребовало многих десятилетий.
Проявляя серьезную заинтересованность в развитии в северной столице биржевой торговли, рассматривая Петербург в качестве «пристанища коммерции», Петр I в течение многих лет выступал активным куратором биржевых сделок, стремился заменить традиционную беломорскую внешнюю торговлю, центром которой являлся Архангельск, на балтийскую. Деятельность эта осуществлялась по нескольким направлениям [28].
В первую очередь законодательно были введены ограничения товарных потоков, проходивших через Архангельский порт. Так, например, в 1713 и в 1714 годах были приняты царские указы, запрещавшие русским купцам привозить в Архангельск и Вологду пеньку, юфть и предметы государственной монополии. Их было приказано доставлять в Петербург. Иностранным негоциантам также было предписано, чтобы корабли за этими грузами направляли не на Север, а в устье Невы [29].
В 1721 году были приняты царские указы, запрещавшие импортные операции с сахаром, осуществлявшиеся ранее через Архангельский порт, а также ограничивавшие подвоз всех товаров к Архангельску, за исключением тех, которые требовались для нужд жителей губернии. С товаров, которые предназначались для вывоза через Балтийское море, не взимались пошлины на внутренних заставах. При этом падение традиционной беломорской внешней торговли происходило довольно быстро, что особенно проявилось в начале 1720-х годов. Если в 1722 году Архангельский порт принял 60 иностранных кораблей, то в 1723 году – 40, в 1724 году – 22, а в 1725 году всего 19 кораблей [30]. В то же время, если в 1720 году Петербург принял 75 заграничных судов, то в 1725 году – уже 200 судов [31].
Всячески поощрялся подвоз в Петербург из России продовольствия, сырья и различных товаров, как для внутреннего потребления города, так и для экспорта. Указом 1725 года строжайше запрещалось кому бы то ни было перекупать на дорогах перевозимое в Петербург под угрозой конфискации купленного. За помеху купцам в их торговле с Петербургом существовал ряд наказаний «смотря по вине» [32].
Параллельно с переориентацией торговых потоков Петр I проводил активную переселенческую политику. Особое значение при этом он придавал переезду в Петербург видных купеческих фамилий, представители которых могли бы торговать на столичной бирже с иностранцами [33]. Стремясь подержать общественный статус купеческого сословия, незадолго до смерти Петр повелел издать сенатский указ о пожаловании купцов в дворянское звание, поскольку «богатый купеческий человек государству для ради общенародной пользы полезнейший есть, нежели десять убогих шляхтичей… легионы попов, монахов и монахинь (если они не служат в церквях или школах) … непотребных гуляльщиков… тунеядцев» [34]. Наряду с этим был введен запрет на розничную торговлю в городе для всех, кто не записался в купечество. Иностранным купцам запрещалось торговать друг с другом под угрозой штрафа в 1000 рублей [35].
По воле Петра были проведены серьезные работы по улучшению путей сообщения, в результате которых обеспечивался приток в Петербург предназначенных на экспорт товаров. Для соединения северной столицы с бассейном Волги в 1703 году началось сооружение Вышневолоцкого канала, движение по которому было открыто уже в 1709 году. В 1718 году началось сооружение обводного Ладожского канала.
В целях укрепления торговых контактов с Западной Европой были предоставлены дополнительные льготы иностранным купцам, торговавшим в Петербурге. В 1706 году Россия заключила торговую конвенцию с Францией. В 1715 году были учреждены русские консульства в Амстердаме, Лондоне, Лиссабоне и ряде других городов.
Проводившаяся Петром I политика протекционизма была направлена, прежде всего, на обеспечение активного внешнеторгового баланса. В 1726 году из Петербургского и Архангельского портов было вывезено за границу товаров на сумму 2 млн 688 тыс. рублей, а ввезено на 1 млн 585 тыс. рублей. В предметах вывоза на первом месте стояли льняные ткани (10 млн аршин), пенька (484 тыс. пудов), юфть (172 тыс. пудов), железо (55 тыс. пудов). Главными предметами импорта являлись шерстяные материи (на 663 тыс. руб.), красильные материалы (276 тыс. руб.), напитки (141 тыс. руб.). При этом Петербург давал до 90—95% оборотов внешней торговли [36].
Регулярно посещая Петербургскую биржу, Петр I принимал конкретные меры для упорядочения ее работы. Именным указом царя от 17 марта 1717 года была введена должность гоф-маклера биржи «от казенных товаров», в обязанности которого входило «к стороне его величества чинить всякую верность и казенной прибыли прилежное радение» [37].
Создание в России института государственного биржевого маклерства было связано с тем, что товары, предназначавшиеся на вывоз, закупались в стране большей частью или самим государством, или специально учрежденными монопольными торговыми компаниями и откупщиками.
Первым гоф-маклером Петербургской биржи стал некто Самуил Мюкс, исполнявший эту должность более двадцати лет [38]. До своего назначения Мюкс вел торговлю в Архангельске и Москве, был женат на дочери архангельского купца Якова Якимова. Будучи поверенным лицом правительства (фактически, придворным маклером), С. Мюкс обладал широкими полномочиями во всех торговых операциях по купле-продаже казенных товаров.
Через гоф-маклера шел широкий поток разнообразных товаров: лошади, вестфальские окорока, бургундское и рейнское вино, золото, серебро, алмазы, женское платье, чулки, шляпы, полотно, сукно, кофе, фарфоровая посуда, сало, треска, поташ, пенька, железо и прочее.
После смерти в 1741 году Мюкса на должность гоф-маклера был назначен выходец из Нарвы мещанин Каспер Кервидер, биржевой и портовый коммерсант, торговец шелковой материей. В 1750 году указом Правительствующего Сената гоф-маклером был назначен принявший российское подданство любекский купец Иоганн Сирициус [39].
Если гоф-маклерами, следуя петровской традиции, долгие годы на С-Петербургской бирже были исключительно иностранцы, то среди казенных (присяжных) маклеров и просто маклеров встречались и коренные россияне. Как правило, это были известные в купеческой среде люди по тем или иным обстоятельствам вынужденные оставить «свое дело» и заняться торговым посредничеством. Сохранились имена первых маклеров-россиян: Еремей Титов, Василий Агаев, Петр Сафонов, Андрей Краснаков…
Проявляя заинтересованность в упорядочении биржевой торговли, Петр I и его ближайшие преемники многое сделали для совершенствования института биржевого маклерства. Первоначально, согласно указаниям Петра I, маклеры назначались Коммерц-коллегией. В «Регламенте, или Уставе Главного магистрата» отмечалось, что ни какие договоры на бирже не должны заключаться без посредничества маклеров. Маклерские записи при сделках служили своеобразной страховкой купцов от возможных убытков при осуществлении торговых операций. При этом «вседневная записка маклеров» была приравнена в юридическом отношении к судебному протоколу. Никакого официального жалования маклеры не получали, а содержались исключительно за счет проводившихся операций, получая деньги «от купеческих людей». Согласно «Вексельному уставу» 1729 года маклерам отводилась важная роль при заключении сделок с векселями.
В 1759 году, недовольные засильем в маклерской среде иностранцев, торговавшие на С.-Петербургской бирже купцы подали челобитную в Правительствующий Сенат с просьбой назначить гоф-маклером природного русского купца. При этом была предложена и кандидатура – торопецкий купец Михаил Иванович Туфанов, который вел постоянный торг в Петербурге. Сенатским указом 9 ноября 1759 года Коммерц-коллегии было предписано привести М. И. Туфанова к маклерской присяге и назначить его вторым гоф-маклером на таком же основании и с такой же оплатой, как у И. Сирициуса [40].
С 1762 года маклеры стали избираться по рекомендации биржевого купечества.
На протяжении всего XVIII столетия Петербургская биржа находилась под управлением и постоянным контролем со стороны учрежденной в 1716 году Коммерц-коллегии, деятельность которой в свою очередь контролировалась Правительствующим Сенатом, учрежденным в 1711 году. Правительственным указом 1725 года определялось время открытия и закрытия биржевых торгов. Они начинались в 11 часов утра и завершались, как правило, в час пополудни.
Коммерц-коллегия была обязана следить за тем, чтобы торговые сделки, соглашения о займах и иные контракты с иностранцами заключались на бирже исключительно при участии маклеров, получавших процент с общей суммы коммерческой операции. Все сделки подлежали регистрации в маклерских книгах, в ином случае они признавались недействительными.
Все маклеры при вступлении в должность приводились к присяге, давая при этом обязательство вести дела без пристрастия и личной заинтересованности, ограничиваясь исключительно куртажем по установленной таксе. За убытки, которые происходили по их вине, маклеры несли материальную ответственность. В случае же выявленного умысла, маклеры подвергались уголовной ответственности. Деятельность «неприсяжных» маклеров не допускалась.
В «Регламенте, или Уставе Главного магистрата», подписанном 16 января 1721 года, Петр I рекомендовал создавать биржи «в больших приморских и прочих купеческих знатных городах», по примеру «иностранных купеческих городов». Располагаться они должны были «в удобных местах недалеко от ратуши». Торговые люди должны были сходиться на биржах «для своих торгов и постановления векселей, також и для ведомостей о приходе и отпуске кораблей и коммерции: понеже в таком месте каждый купец и продавец в один час по вся дни тех может найти, с которыми ему нужда есть видеться» [41].
В этом же документе содержатся и рекомендации по организации ярмарочной торговли. Можно предположить, что, ставя в один ряд ярмарки и биржи, Петр I давал тем самым понять властям и купечеству: слабо упорядоченный ярмарочный торг должен равняться на четко регламентированный торг биржевой. В конечном итоге это должно было поднять планку отечественной торговли, ориентировать ее на общеевропейские ценности и правила. Так оно и произошло. С течением времени российские ярмарки, конечно же, наиболее крупные, все более подвергались административной регламентации и распланировке, ориентации на биржевой порядок.
Волевым указом 1723 года Петр I предписывал «приневолить» купцов к участию в биржевой торговле. Была введена практика направления в Голландию, Италию, Англию и другие страны купеческих сыновей для обучения премудростям коммерции и биржевой торговли.
Оказывая прямую и косвенную поддержку бирже, Коммерц-коллегия была обязана заботиться о развитии отечественной внешней и внутренней торговли, заниматься составлением таможенных уставов и тарифов, на деле реализовывать протекционистскую политику государства. Одна из важных задач Коммерц-коллегии состояла в защите интересов купечества от злоупотреблений. Особый контроль осуществлялся за качеством товаров. Коммерц-коллегия наблюдала за правильностью мер и весов, устанавливала правила работы товарных браковщиков.
В донесениях дипломатических агентов Коммерц-коллегии, которые действовали в Амстердаме, Лондоне и Лиссабоне и содержались за счет доходов «с лавок и амбаров», должны были содержаться сведения о том как «товары подымаются и низятся; такожде как пошлины в чужестранных приморских городах возвышаются и убавляются, какие трактаты от коммерции между чужестранными державами поставлены, и какие о морском хождении, купечестве, каперстве и прочих регламенты выдаваны бывают» [42]. Все эти сведения Коммерц-коллегия была обязана сообщать торговым людям на бирже.
Созерцатель петровских преобразований, посетивший Россию в период создания Петербургской биржи, голландский этнограф и писатель К. де Бруин, отмечал, что «главнейшие доходы России» того времени получались от продажи мехов, хлеба, кожи, поташу, вайдовой золы, пеньки, рогож, щетины, дегтя, сала и прочего сырого товара [43]. По всей видимости, именно этот товар и являлся основным для продажи иностранцам на первой российской бирже. Торговали крупными партиями товаров, находящихся на складах или на кораблях. Основными биржевыми сделками являлись внешнеторговые.
В отечественной исторической и историко-экономической литературе содержится неоднозначная оценка петровских хозяйственных нововведений, нередко подчеркивается их искусственный характер, противоречащий национальным традициям и нравам. Современный исследователь В. Б. Перхавко, подчеркивая приверженность русского купечества старине, пишет: «…Нововведения Петра I, совершенные под воздействием впечатлений от Великого посольства и знакомства с жизнью иностранного купечества, – бурмистрские палаты в городах, биржа в Санкт-Петербурге, попытки учреждения в России торговых компаний, создание коммерческого флота – имели разную степень эффективности» [44].
Данное утверждение, на наш взгляд, справедливо лишь по отношению к эпохе самого Петра. Если же смотреть на петровские преобразования в контексте последующей российской истории, то эффективность того, что удалось сделать (или заложить тенденции развития) царю-реформатору, становится более очевидной. Это хорошо иллюстрирует последующая история отечественной биржевой торговли, рожденной и выпестованной Петром. Воля царя-реформатора предварила тот исторический период, когда объективная необходимость привела к расширению товарно-денежных отношений, загодя создав механизм, призванный способствовать этим процессам в Российском государстве.