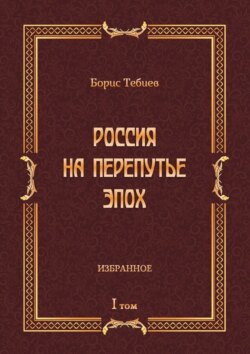Читать книгу Россия на перепутье эпох. Избранное. Том I - Борис Тебиев - Страница 5
Экономический либерализм в России XIX века и критика социалистических экономических учений
Глава 3. Экономическое учение К. Маркса в оценке представителей либерального направления российской экономической мысли
Российские обществоведы о несостоятельности научного метода К. Маркса. Либеральная критика марксова учения о прибавочной ценности. Российские либеральные экономисты и марксистская концепция социально-экономического прогресса человечества
ОглавлениеОдним из первых критиков «Капитала» К. Маркса в России еще до выхода в свет книги на русском языке стал известный русский ученый, философ-позитивист и общественный деятель, активный сторонник введения в стране представительного правления Е. В. де Роберти (1843—1915). В выпущенной в 1869 году в Петербурге книге «Политико-экономические этюды», посвященной в основном рассмотрению экономических взглядов Г. Ч. Кэри, он дает обстоятельный и аргументированный разбор отдельных положений марксизма [1].
При этом де Роберти характеризует Маркса как представителя школы умеренных социалистов, которой «принадлежит честь обновления социализма на научных основаниях и восстановления репутации этого направления в общественном мнении» [2].
Признавая критерием научности метод исследователя, де Роберти не без оснований называет Маркса «достойным учеником Прудона». «Диалектика его, – отмечает де Роберти, – еще тоньше и запутаннее прудоновской, но она за то и тяжелее, и пространнее» [3]. Автор характеризует метод Маркса как хитросплетенную цепь понятий, не опирающихся на факты действительности, живущих самостоятельной жизнью и объединенных лишь априорными исходными положениями исследователя.
Отмечая насыщенность «Капитала» фактическим материалом, почерпнутым из официальных документов, де Роберти констатирует, что вся эта масса фактов и сведений ничего не доказывает.
Десятилетие выхода в свет первого тома «Капитала» было отмечено рядом критических статей либеральных авторов. Особое место среди них занимает публикация Жуковского «Карл Маркс и его книга о капитале» в майской книжке «Вестника Европы» за 1877 год.
«Как писатель, Маркс выделяется из массы публицистов многими почтенными преимуществами, – писал Ю. Г. Жуковский. – Его книга полна свидетельств серьезного и добросовестного труда, начитанности и эрудиции, свойственным немецким писателям, но отличается от цеховой немецкой начитанности богатством не мертвых, бесцельных цитат, а богатством живых примеров, взятых из официальных документов. Его изложение отличается крайней последовательностью и стройностью, логической связью отделов…» [4].
Отмечая причастность Маркса к гегелевской философской школе и называя его «вольнодумным учеником» этой школы, «который не хотел убедиться, что „идея добра, дошедшая до сознания самой себя“, осуществилась в прусской конституции», но «не мог освободиться от веры в силу диалектических доказательств», Жуковский указывал на то, что Марксу «недостаточно было доказать присутствие в практических отношениях противоречий, а нужно было еще доказать диалектический корень, природу и происхождение этих противоречий». Именно для этого Марксу пришлось «разложить процесс производства на диалектические категории, представить процесс производства, как игру таких категорий, и затем отыскать в игре между ними такое слабое место, которое можно бы было выдать за таинственный источник нового Нила» [5].
Последствием влияния гегелевской школы в изложении Маркса, отмечал Жуковский, является утомительное перекладывание одного и того же простого и понятного самого по себе содержания в различные диалектические формы, которое напрасно удлиняет изложение, утомляет внимание, а для читателя, непривычного к подобной метафизической игре, делает самое изложение местами вовсе непонятным [6].
«Диалектический арсенал», собранный на первых страницах книги, которому Маркс «придает особенную важность», Жуковский считает пригодным лишь для кружка дилетантов диалектики. «Для существа дела все эти диалектические доказательства тех положений, которые доказывает Маркс, не имеют никакого интереса…» Все дальнейшее критическое содержание книги Маркса, вся ее философская сущность, если отделить ее от чисто фактической части, имеющей значение как простое описание текущего процесса производства, выражается в немногих словах и не потребует для ее объяснения много места.
В дальнейшем своем анализе отдельных положений «Капитала» Жуковский аргументировано обвиняет Маркса в манипулировании диалектическими противоречиями и превращении их в действительные бесконечные противоречия, «на которых, по Марксу, и строятся все права капитала…» [7].
Жуковский оценивает Маркса как представителя формалистического течения политической экономии, ограничивающего свое исследование исключительно формально «морфологической» стороной общественной жизни, то есть, правовыми отношениями. В подтверждение этому Жуковский ссылается на предисловие Маркса «К критике политической экономии». Маркс говорит здесь следующее: «…Человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже существуют или, по крайней мере, находятся в процессе становления». Жуковский считает, что это утверждение Маркса не соответствует современным научным воззрениям, ибо если юридические формы и вырастают на экономической почве, то в сознании человека могут возникать не только такие «формы, для осуществления которых есть готовые материальные средства…» [8].
Диалектический метод Маркса с его претензией на абсолютное знание был подвергнут серьезной критике и многими другими рецензентами «Капитала», в частности, Б. Н. Чичериным, опубликовавшим в 1878 году в пятой и шестой книжках «Сборника государственных знаний» (выходил под редакцией В. П. Безобразова) серию из двух статей под общим названием «Немецкие социалисты». Первая из них была посвящена творчеству Лассаля, а вторая – Маркса.
Чичерин убедительно обвинял Маркса в попытке «свою диалектику выдать за результат опыта» [9]. Фактическое изложение у Маркса он считал лишь «придатком, который освещается предвзятою мыслью, то есть представляется в совершенно ложном свете» [10]. «Таким и является, – писал Чичерин, – фактический материал в книге Маркса. – В выводе основных положений нет у него и тени фактического доказательства; затем, когда теория построена, на этом основании воздвигается фактическое здание, которое, разумеется, получает тот вид, который автору угодно ему придать. Следовательно, когда Карл Маркс уверяет, что его начала только кажутся выведенными a priori, то этим он обнаруживает только, что у него нет для них ни умозрительного, ни опытного доказательства. Он сам не знает, откуда они взяты. И точно, тут нет ни умозрения, ни опыта, а есть только логические фокусы, которые выкидываются для заданной наперед цели» [11].
Хорошо знакомый не только с первым, но и с двумя последующими томами «Капитала» по их немецким изданиям, Н. Х. Бунге первым среди критиков экономического учения Маркса отметил и то, что изданные Энгельсом тома в сущности «едва ли прибавляют что-либо новое к доктрине Маркса», и то, что эти тома, как и первый, в основе своей бездоказательны. «Так, например, – писал Бунге, – в отделе о процессе обращения капитала идет речь об обращении капитала денежного, товарного, о видах обращения натурального, денежного и кредитного, о продолжительности и издержках обращения, об обороте капитала – именно о времени и числе оборотов, о капитале консолидированном (fixes Kapital) и обращающемся (circulierendes), об обороте (Umschiag) затраченного капитала по учению физиократов, Смита и Рикардо, о периоде работ, о продолжительности производства и обращения, о влиянии оборота на величину затраченного капитала. На первый взгляд, это содержание кажется очень богатым и разнообразным, но при ближайшем с ним ознакомлении оказывается, что все оно вытекает не из наблюдения над жизнью, а составляет произведение отвлеченного, нередко произвольного мышления. Все направлено к тому, чтобы доказать примерами, подобранными отрывками из экономистов или из парламентских исследований, в сущности ничего не доказывающими, выводами из придуманных гипотез, что прибавочная ценность состоит только из отнятой у работника доли произведений его труда, что все доходы, кроме заработной платы, имеют один источник – прибавочную ценность» [12].
Обвиняя Маркса в излишнем огрублении, упрощении и схематизации действительности, российские либеральные экономисты расценивали диалектику автора «Капитала» как априорную конструкцию, далекую от адекватного отражения реальной действительности. К аналогичным выводам позднее пришли и многие западные марксологи.
Критика ограниченности марксова метода, построенного на диалектике Гегеля, вызвала оживленную полемику в отечественной и западноевропейской экономической литературе вокруг вопросов о методе экономического анализа вообще. «В политической экономии [мы] находим столько же различных «методов исследования», сколько существует в ней различных школ и учений, – писал по этому поводу публицист Л. З. Слонимский. – Общая форма индукции и дедукции, простое наблюдение и отвлеченная диалектика, – все это одинаково идет в дело, смотря по личным вкусам и понятиям писателей. Одни настаивают главным образом на «фактах», противопоставляя их абстракциям умозрительных теоретиков, которые в свою очередь, не придают никакой цены внешнему наблюдению, не вспомоществуемому теорией. Другие отводят место и фактам, и отвлеченным умозрениям, и лично своим чувствам, и философским размышлениям, превращая, таким образом, науку в какую-то хаотическую смесь всевозможнейших точек зрения. Третьи углубляются в историю, чтобы в туманной дали веков отыскать какие-либо данные для разрешения экономических проблем.
Есть, наконец, и такие, которые с замечательною наивностью заявляют, что экономисты должны только высказывать в более или менее глубокомысленной форме, различные мнения и идеи, избегая по возможности сухих рассуждении, могущих утомить читателей» [13].
Актуальную задачу политической экономии Слонимский видел в том, чтобы исследователи неизменно брали на вооружение все лучшее, что выработано их предшественниками, и шли дальше по пути приращения научного знания, обеспечивая прогресс экономической науки. Подробно раскрывая вклад, который внесли в экономическую науку ХIХ века такие выдающиеся экономисты как Иоганн Генрих фон Тюнен (1783—1850) и Антуан Курно (1801—1877), оказавшиеся «забытыми», Слонимский делает серьезный упрек К. Марксу в отсутствии научной этики и в полном игнорировании выводов фон Тюнена, ученого, «нисколько не уступавшего Рикардо по глубине своего анализа и по плодотворности своих теорий», но не имевшего «такой литературной удачи, которая выпала на долю его английского учителя» [14].
Ссылаясь на то, что имя Тюнена приводится Марксом мимоходом, лишь единожды в добавочном примечании 77 к XXIII главе второго немецкого издания первого тома «Капитала», Слонимский справедливо замечает, что теоретические вопросы экономической науки не могут быть решаемы каждым автором по-своему, без внимания к тому, что уже сделано и разъяснено предшественниками. «Трудно, разумеется, предположить, – пишет Слонимский, – чтобы такой знаток и любитель литературы, как Маркс, не имел действительно никаких сведений об исследованиях Тюнена: он сам, должно быть, сознавал всю неловкость такого пробела, чем и объясняется, вероятно, его неожиданно резкая дополнительная выходка в позднейшем издании «Капитала». Марксу было, конечно, не совсем удобно упоминать об авторе, у которого он, быть может, кое-что позаимствовал, и которого, с другой стороны, пришлось бы серьезно разобрать и опровергнуть для надлежащего подтверждения некоторых существенных положений, развиваемых в «Капитале».
«Труды фон Тюнена, – замечает далее Слонимский, – принадлежат к числу тех, которые не поддаются обыкновенной литературной полемике, столь удачно применяемой Марксом к другим сочинениям и авторам. Маркс, как известно, горячий поборник литературного „капитализма“: он не только усердно ограждает свое мнимое право собственности даже против покойного Лассаля, превосходившего его по таланту и по искренности, но разыскивает литературные кражи и между посторонними писателями, в том числе и такими, как Мальтус. Поэтому мы вправе были бы с такою же строгостью относиться и к притязаниям Маркса, основанным на предполагаемом незнакомстве экономистов-литераторов с действительно научными трудами какого-нибудь Тюнена или Курно. Учение Маркса об экономических эквивалентах взято, например, как будто у Курно, имя которого также умалчивается, конечно, в книге о „Капитале“, содержащей в себе, однако, весьма значительную массу старого и отчасти совершенно ненужного литературного хлама. Но для нас безразлично, по сущности, какие приемы употребляет Маркс для обеспечения себе литературного успеха. Мы указываем только тот характеристический факт, что даже в таком старательно составленном и претендующем на полную ученость трактате игнорируются исследования и выводы одного из главнейших двигателей той классической экономической науки, истолкователем которой считает себя Маркс» [15].
Следует заметить, что высокая оценка вклада Тюнена и Курно в экономическую науку, которая содержалась в цитированной выше статье Слонимского, полностью разделяется современными экономистами и историками экономической науки, в частности, М. Блаугом. Автор лучшего из существующих ныне учебников по истории экономической мысли считает Тюнена «подлинным основоположником предельного анализа в XIX веке» [16].
Возвращаясь к вопросу о методе экономической науки, необходимо отметить, что аналогичные споры возникали среди экономистов и ранее. Однако постановка вопроса при этом была чересчур прямолинейной. Он сводился к следующей форме: каким путем достигается познание экономических законов – путем индукции или дедукции? При этом часто не учитывалось, что политическая экономия не представляла собой единого целого. Ее развитие шло по разным направлениям и содержало в себе четыре раздела экономического знания – теоретическую политическую экономию, экономическую политику, финансовую науку и хозяйственную историю. Именно это обстоятельство и делало споры о методе безрезультатными.
Известную ясность в вопрос о методе политической экономии внес один из творцов маржинальной революции конца XIX века, основатель австрийской экономической школы, профессор Венского университета Карл Менгер (1840—1921). В своей работе «О методе в социальных науках и в политической экономии в особенности» (Лейпциг, 1883) Менгер подробно изложил основы нового видения проблемы метода. «Когда наука сбивается с истинного пути, когда господствующие школы вносят в нее ложные методологические приемы, – писал Менгер, – тогда-то выяснение методологических вопросов является условием дальнейшего прогресса и тогда чрезвычайно уместен спор о методе» [17].
При этом Менгер отталкивался от наличия в современной ему экономической науке двух «господствующих школ» – немецкой исторической школы, находившейся в тесной связи со школой Пухты и Савиньи, и школы Маркса и Родбертуса, воспитанной на исторической философии Гегеля.
Отмечая заслуги исторической школы в области ретроспективного анализа хозяйственного быта, Менгер тем не менее видел причины упадка экономической теории своего времени исключительно в господстве статистическо-исторического метода, насаждавшегося этой школой.
Отличие школы, к которой принадлежал Маркс, по мнению Менгера, заключалось не в преднамеренном игнорировании хозяйственной истории, а в самом способе отношения к историческому материалу. Школа эта осталась верной рикардо-смитовскому методу и смотрит на историю только как на вспомогательную науку политической экономии. Представители же исторической школы являются, прежде всего, культур-историками, а затем уже экономистами. Их стремление предоставить господство в теоретической политической экономии индуктивному (эмпирико-реалистическому) методу привело к тому, что многие из них совершенно исключают из состава политической экономии науку об общих принципах экономических явлений.
Анализируя в своем исследовании различные точки зрения, определяющие разницу в методе, Менгер писал, что мир явлений может быть рассматриваем или с точки зрения отдельных явлений в определенном пространстве и в определенное время, или с точки зрения самих форм явлений. Первое направление исследования состоит в познании индивидуального явления, второе – в познании родового. Отсюда вытекают и две группы научных знаний – индивидуальная и родовая.
От изучения конкретных явлений легко перейти к изучению таких форм явлений, которые называются типами. Действительно, несмотря на большое разнообразие конкретных явлений, можно легко убедиться, что отдельное явление не представляет собой какую-либо особую, вполне отличную от всех других форму, а, наоборот, на опыте мы убеждаемся, что известные явления с большей или меньшей правильностью повторяются. Вот эта повторяемость явлений и служит основой для понятия о «типе». Мы наблюдаем точно такую же повторяемость и во взаимных соотношениях между конкретными явлениями, которые определяются как типические. Пример: явления купли, денег, спроса и предложения, цены, капитал, проценты представляют собой типические формы экономических явлений, а правильное падение цены товаров вследствие усиления предложения, падение процентов вследствие значительного прилива капиталов – это будут типические соотношения между экономическими явлениями.
Познание форм явлений является необходимым условием полного познания реального мира, а без познания типических соотношений мы были бы лишены дара предвидения и господства над вещами. Все сказанное по отношению ко всему миру явлений Менгер целиком переносит в сферу хозяйственных отношений и соответственно этому делит всю политическую экономию на три части.
Изучение экономических явлений в их последовательности и взаимной связи, т. е. изучение со стороны их индивидуальных признаков, образует отдел статистики и истории народного хозяйства. Изучение типических форм экономических явлений и их соотношений составляет предмет теоретической политической экономии. К третьему разделу Менгер относит так называемые практические науки или искусства, в том числе народно-хозяйственную политику и финансовую науку. Обе эти науки объясняют явления не с исторической и не с теоретической сторон их исследования, а устанавливают те основания, опираясь на которые можно наиболее целесообразно достигать определенного рода стремления.
Исходя из указанных соображений, Менгер поставил вопрос о реформе политэкономии. Эта реформа, отмечал он, должна исходить из ее самой и проводиться не историками, а политэкономами посредством методов, свойственных этой науке, а не методами посторонних и вспомогательных по отношению к ней наук.
Особый интерес представлял метод, по которому Менгер предлагал вести исследования в теоретической экономии. Этот метод получил название «точного» или «экзактного». Он формулируется следующим образом: раз какое-либо явление наблюдается при наличии данных условий, то при наступлении тождественности тех же условий должно быть налицо и вышеупомянутое явление. В этом коренится различие между новым методом Менгера и методом эмпирико-реалистическим, господствовавшим в исторической школе. Эмпирико-реалистический метод только констатирует факты хозяйственной жизни, говорит, что за каким-то явлением следует такое-то, но неизбежности следования этого явления за предшествующими – этой уверенности закона – он не дает. Для того чтобы прийти к такому закону, выражающему неизменный порядок явлений, мы должны искать точку опоры уже не в эмпиризме явлений, а в свойствах человеческого мышления, дающего возможность явления конкретной действительности рассматривать в абстрактном виде, путем нашего мышления, «абстрагируя их».
Все факты социальной жизни, отмечал Менгер, отличаются крайней сложностью и запутанностью, так как они являются производными разнообразных явлений, как внешней природы, так и стремлений, присущих человеку: моральных, религиозных нравов, стремлений к поддержанию физической жизни отдельного индивидуума, семьи, целого общества и т. п. Поэтому различные дисциплины объясняют только какую-нибудь сторону этих сложных социальных явлений.
Политэкономия идет тем же путем, что и социология. Она берет на себя часть этой обширной науки и ставит своей задачей выяснить законы человеческого общества со стороны хозяйственной деятельности. Верная своему «точному» методу, она исходит из наиболее общих факторов хозяйственной жизни, а такими она считает потребности человека и стремление к их удовлетворению с наименьшей затратой труда.
Главным оппонентом Менгера в вопросе о методе выступил берлинский профессор Густав Шмоллер (1838—1917), автор книги «Основы общего учения о народном хозяйстве». На его выпад Менгер ответил новой работой, в которой повторил и развил доказательства правильности своего подхода к вопросу о методе политической экономии. В спор были втянуты как сторонники Менгера, так и его противники.
В России особый интерес к спору о методе проявил профессор В. Ф. Левицкий, вставший на сторону австрийской школы. Свои суждения по этому вопросу он высказал в статье «Вопрос о методе политической экономии в новейшей германской литературе» и в книге «Задачи и методы науки о народном хозяйстве» [18]. «Методологические вопросы в такой теоретико-практической науке, как политическая экономия, – писал Левицкий, – мы могли бы сравнить с разными ритуальными спорами в российском расколе, например, о двуперстном и трехперстном знамении креста, за которым нередко скрываются требования чисто социального характера. Заслуга Менгера именно в том и заключается, что он указал, насколько методологические приемы исследования составляют главный пункт, из которого вытекают все другие достоинства и недостатки… Методологические исследования подобные менгеровским, восстанавливают в правах гражданства все отрасли экономических знаний, представляя, таким образом, попытку свести их к общему единству» [19].
Важное внимание проблеме метода экономической науки уделял и Н. Х. Бунге. Критикуя английскую умозрительную школу, к которой он относил и Маркса, Бунге отмечал, что недостатки, представляемые неверными положениями или шаткими гипотезами, принятыми за основание для выводов, а также признание необходимости правильных наблюдений, пригодных для извлечения из них положений, служащих для дальнейших выводов, наконец, неразрывная связь между обоими научными приемами приводят к убеждению, что защита выводного метода, как единственно истинного, не выдерживает критики.
Характеризуя творчество Дж. С. Милля, как последователя английской умозрительной школы, Бунге писал, что знаменитый некогда экономист оправдывает употребление выводного метода в политической экономии тем, что наведение не применимо к общественным явлениям, которые не могут быть воспроизведены опытом и никогда не бывают совершенно похожи друг на друга. Выводы из гипотез, или из эмпирических законов явлений допускают по Миллю поверку научных истин или самими явлениями, или поставлением априорных выводов в связи с общими началами человеческой природы. Но против этого должно заметить, что если нельзя воспроизводить общественные явления по произволу, то запас статистических данных может быть достаточен для того, чтобы экономист не нуждался в этом воспроизведении, и если два явления не совершенно тождественны, то однородные их элементы дают материал, иногда годный для наведения. Таким образом, науке предстоит усвоить себе метод положительных знаний, то есть пользоваться не подбором данных и наблюдений для осуждения заранее осужденного на основании предвзятых гипотез, или априорических мнений, не искать подтверждения уже принятых за непререкаемые истины недостаточно обоснованных положений, а делать наблюдения для извлечения из них основных положений и пользоваться последними для выводов.
В отличие от Левицкого, являвшегося, как уже отмечалось, приверженцем школы Менгера, более привлекательным Бунге считал подход его оппонента Шмоллера. Важную заслугу Шмоллера Бунге видел в стремлении освободить экономическую науку от догматики англо-французской утилитарной философии и «поставить ее физиологически и исторически глубже на твердой почве». Уже первое крупное сочинение Шмоллера «К истории германской мелкой обрабатывающей промышленности» (1870), по мнению Бунге, «несмотря на свой специальный предмет, может служить образцом, как следует пользоваться историко-статистическим материалом, и показывает, к каким выводам приводит правильная его разработка» [20]. Затрагивая разнообразные социальные вопросы, отмечал Бунге, Шмоллер не спешит с предложением рецептов для водворения общественного благосостояния, но анализирует экономические явления в связи со всеми другими, с которыми они соприкасаются в жизни народа. История и статистика служат Шмоллеру не для того, чтобы уложить сделанные наблюдения в известные рамки, а для того, чтобы этими наблюдениями выяснить действительные причины совершающегося и указать на способы содействия тому, что требует поддержки, и борьбы с тем, чему следует оказать противодействие. Противопоставляя теорию Шмоллера учению Маркса, Бунге писал, что Шмоллер не принадлежит к числу доктринеров, у которых из несомненных положений, из слишком смелых гипотез развиваются целые системы. «Вместо того, чтобы строить последние, он при помощи известных общепризнанных истин показывает, как создается материал для науки и в каком смысле разрешаются текущие экономические вопросы» [21].
В критике «Капитала» Маркса его либеральные оппоненты особое внимание уделяли теории прибавочной ценности (стоимости) как квинтэссенции всех теоретических построений немецкого ученого [22].
Рассматривая ценность как категорию обмена, де Роберти писал, что марксова теория прибавочной ценности представляет собой всего лишь искусно придуманную игру понятий, лишенных серьезной исторической основы. «Ценность, в глазах Маркса, – отмечал де Роберти, – происходит от преодоления живым трудом известных трудностей, отделяющих средства для удовлетворения наших потребностей от самого удовлетворения, но отсюда к определению ценности мерою власти природы над человеком очевидно только один шаг. Не менее ясно и то, что полезность Маркс принимает как экономическое свойство, стоящее в обратном отношении к ценности или, другими словами, как меру власти человека над природой» [23].
В этой связи де Роберти полагал, что взгляд Маркса на «процент с капитала» как на неоплаченный труд или как на избыток над заработной платой, величина которого находится в обратном к ней отношении, должен был привести Маркса к формулированию закона прогресса, по которому «ценность труда» должна повышаться, а «ценность капитала», или процентная прибыль, постоянно понижаться.
Де Роберти первым среди российских критиков отметил не оригинальность марксовой теории прибавочной ценности. По его мнению, «Маркс только выводит из известного положения Рикардо о ценности все скрытые в нем последствия и облекает их в самую выгодную для социалистических требований форму». Де Роберти считал, что Маркс смотрит на экономические факты еще с распределительной точки зрения, что он «остановился на пол дороге между социализмом и наукой» [24].
Многие последующие критики теории прибавочной ценности также не находили в ней ничего оригинального и считали, что Марксом сделан не шаг вперед по сравнению с постановкой этого вопроса классической школой, а шаг назад [25].
Большой интерес с точки зрения общего понимания отечественными либеральными экономистами природы ценности представляют суждения, которые высказывал по этому поводу Бунге, критически анализируя учение близкого по своим воззрениям к Марксу немецкого экономиста К. И. Родбертуса. Не подлежит сомнению, утверждал Бунге, что труд не составляет единственной производительной силы, что в производстве работают не одни мышцы человека, а также стальные мышцы машин, органические и неорганические силы природы, накопленные материальные и духовные средства, наконец, и весь организм более или менее развитой общественной жизни. Все эти силы создают не только годность, но и ценность произведений, выражающую степень необходимости и доступности последних для человека.
Несомненно, что и собственность, как совокупность средств, находящихся в обладании человека, и как итог известной принадлежащей ему ценности, отмечал Бунге, составляет результат предшествовавшего производства и условий, под влиянием которых она образовалась. Рассматривая собственность, как ценность, нельзя не признать, что она создается трудом, капиталом, природою и общественными условиями, а, между прочим, и тем, что современные германские экономисты называют конъюнктурами, т. е. стечением случайных обстоятельств. Так, например, ценность земли возрастает независимо от сделанных в нее затрат, вследствие проведения дорог, увеличения населения и пр. Политическая экономия и развивающееся под влиянием ее законодательство стремятся к тому, чтобы обратить в общественное достояние ту ценность, которая образуется общественными условиями, и обеспечить человеку собственность, составляющую результат производства и его сбережений [26].
Подробный критический разбор теории прибавочной ценности Маркса содержится в цитированной в предыдущем разделе работе Ю. Г. Жуковского. Беря за основу полемики главный тезис Маркса о том, что единственным источником прибавочной ценности и капитала является человеческий труд и, приводя его доводы в подтверждение этого факта, Жуковский умело использует те же самые доводы для доказательства того, что они применимы не только к человеческому труду, но и ко всякой другой производительной силе: земле, дереву, лошади, волу и прочее.
«Если содержание лошади окупается тремя часами ее работы, а она работает целый день, – писал Жуковский, – то она образует прибавочную стоимость; если расходы по обработке земли покрываются только частью ее плодов, то вся остальная часть плодов образует и прибавочную стоимость. На этом основании начало капиталу дает не исключительно человеческий труд, а совместная деятельность самой природы и человека. Раз живая сила получается при совместном действии труда и сил природы в форме продукции значительнее той, которая истрачена была на ее образование, излишек ее, составляя чистую прибыль, дает основание капиталу» [27].
«С другой стороны, очевидно также, – отмечает далее Жуковский, – что ни одно из условий, перечисляемых Марксом, ни свобода распоряжения трудом, ни вынужденность продавать его в форме труда – не составляют условий, которые были бы нужны для начала капитала вообще. Они нужны только для монополизации капитала и потому составляют условия не образования капитала, а его монополизации; не образования или возникновения капитала в обществе вообще, а возникновения его путем обмена» [28].
Большое знание в своей работе Жуковский придавал опровержению логики доказательств Маркса. «Прибавочная часть рабочего дня, в течение которой работник работает уже на капиталиста, – писал он, – служит мерой работы, которой пользуется капиталист из общей суммы работы, поставленной работником. Если работник отрабатывает свою рабочую плату в течение v часов работы и затем работает еще m часов, то работник тем самым работает v часов на себя и m для капиталиста. Число часов m, которое работник работает на капиталиста, выражает чистую прибыль капиталиста, а число часов, которые работник работает на себя, выражает рабочую плату, которую уплачивает капиталист. Отношение m:v равно отношению прибавочного труда к необходимому для покрытия рабочей платы или достающемуся работнику, или отношение чистой прибыли капиталиста к рабочей плате выражает, согласно Марксу, степень эксплуатации рабочей силы капиталом».
Далее Жуковский берет для рассмотрения один из примеров, используемых Марксом, а именно – пример, относящийся к прядильной фабрике за 1860 год.
«Расход. Еженедельное потребление хлопка 11,500 ф., по 7 пенсов за фунт, при 1,500 ф. отбросу, – 336 фунт. стерл. Число веретен 10,000, стоимость по 1 ф. каждое. Ежегодная утрата на веретенах 12% составляет 1,200 ф. с. в год, а в неделю 24 ф. с. Еженедельная утрата на паровой машине 20 ф. с. Вспомогательные вещества: уголь, масло 40 ф. с. – итого 420 ф. с. Плата работникам 70 ф. с. – Всего 490 фунт, стерл.
Приход. По цене за фунт пряжи, равной 1,1 шил., за 10,000 ф. пряжи 550 ф. с. Следовательно, чистая прибыль капиталиста 550—490 = 60 ф. стерлингов, а им истрачено на работу 70 ф. и потому отношение чистой прибыли к рабочей плате равно 60: 70 = 6:7, почти единице».
Показывая, какой реальный вес и какое реальное значение могут иметь приведенные выше выводы Маркса об эксплуатации рабочей силы капиталом, Жуковский предварительно обращает внимание на то обстоятельство, что автор «Капитала» отходит от общепринятой методики рассмотрения предпринимательского процента. Чистый доход предприятия он делит не на весь затрачиваемый капитал, а только на часть капитала, затрачиваемую на работу; остальная же часть капитала не берется в расчет вовсе. «Таким приемом, – отмечает Жуковский, обыкновенная величина процента значительно увеличивается, ибо делителем прибыли является здесь не весь капитал, истраченный на производство, а только часть капитала, истрачиваемая на рабочую плату. Что такой прием весьма удобен для того, чтобы выставить в ярком свете выгоды капиталиста и невыгоды работника – в этом нет никакого сомнения; но насколько он может быть допущен на самом деле в том смысле, в котором его допускает Маркс, т. е. в какой степени означенное отношение может быть допущено как выражение степени эксплуатации рабочей силы капиталом, это – вопрос, относительно которого нельзя принять слов Маркса на веру. Допустить это можно только, сделав одно предварительное предположение, – именно, что вся чистая прибыль составляет на самом деле продукт текущего труда, его воплощение и притом его одного. Вот это-то положение допускает Маркс; и оно-то должно быть предварительно доказано, потому, что от верности его зависит не только верность всего допущенного им расчета, но научный вес всего его исследования…» [29]
Оспаривая верность выводов Маркса, Жуковский рассматривает тот же пример с прядильной фабрикой, более подробно комментируя его, после чего проводит аналогичный расчет, но начинает его не с сырого материала, как Маркс, а с труда. «Тогда мы должны будем, – пишет Жуковский, – рассуждать так: 2 ф. пряжи представляют собой стоимость текущего труда. Дело представляется так, как будто в первых двух фунтах пряжи не заключалось ни одного атома материала и орудий, а в остальных 18 ф. пряжи ни одного атома труда. Следующие затем 13 1/3 ф. пряжи представляют собой истраченный сырой материал. Остаются 20—2—13,33=4,66 ф. пряжи, которые могут представлять собой только работу орудий. Дело представляется таким образом, как будто орудия выпряли эти 4,66 ф. из воздуха и без всякого содействия текущего труда. Наконец, из этих 4,66 ф. пряжи 2,66, или стоимость орудия представляет необходимую работу орудий для покрытия своего содержания; остальные же 2 ф. пряжи – прибавочную и совершенно даровую работу орудий, которая достается совершенно даром, без всякой затраты на нее хотя одного атома сырого материала, и текущего труда, так как стоимость того и другого уже вполне оплачена первыми 13,33 ф. пряжи.
Остающиеся 4,66 ф. составляют, следовательно, чистый продукт работы орудий, которая, вместо того, чтобы продолжаться 6 часов, продолжалась 12. Но орудия принадлежат капиталисту, следовательно, нет ничего удивительного, если ему достаются 6,66 ф. пряжи» [30].
Комментируя эти нехитрые расчеты, Жуковский отмечал, что они нисколько не менее строги, чем расчеты Маркса, а между тем они приводят к выводу, совершенно противоположному, чем тот, к которому приходит Маркс. Отсюда не следует, конечно, что данный расчет был вполне правильным, но следует только, что и расчет Маркса не может считаться правильным. Употребленный прием показывает, что тем способом, которым рассуждал Маркс, можно прийти к какому угодно выводу, смотря по тому, с какого фактора производства начать и каким кончить. В стоимость производства любого продукта входят три вещи: сырой материал, орудия или труд прошлый и труд текущий. Смотря по тому, какой из этих факторов мы возьмем последним в расчет, на долю того и достанется, по способу рассуждения Маркса, честь или услуга чистой прибыли. Маркс кончил текущим трудом и начал сырым материалом, и у него услуга чистой прибыли достается на долю текущего труда. Мы начали с текущего труда и кончили орудиями, и у нас чистая прибыль вышла услугой орудий. Можно было бы кончить сырым материалом, и тогда виновником чистой прибыли оказался бы сырой материал. «Все это, – констатирует Жуковский, – показывает совершенную случайность и произвольность тех выводов, которые принимает Маркс» [31].
Во многом схожую с Жуковским позицию в отношении марксовой теории прибавочной ценности занимал и Б. Н. Чичерин. По его мнению, утверждение Маркса о том, что меновая стоимость не содержит в себе ни одного атома природного вещества, является не только ничем не оправданным логическим скачком, но представляет собой прямое противоречие тому, что ежедневно происходит при обмене товаров. «Если мы спросим, – писал Чичерин, – что есть общего между двумя товарами, которые обмениваются? То всякий здравомыслящий человек, наверное, ответит: то, что оба полезны, поэтому они и меняются» [32].
Побудительным стимулом обмена, утверждал Чичерин, является то обстоятельство, что во всякой меновой сделке человек сравнивает ту пользу, которую он дает, с той, которую он получает. Общая же полезность представляет собой основание количественного сравнения различных товаров. Стоимость товаров определяется спросом и предложением.
Являясь убежденным сторонником теории стоимости Ж. Б. Сэя, Чичерин не принимает утверждение Маркса, что человеческий труд является единственно остающимся качеством. Одним из аргументов он приводит пример с покупкой леса, за который платят золотом. И лес и золото являются в гораздо большей степени произведениями природы, чем продуктами труда. Чичерин обвиняет Маркса в произвольной попытке оставить в стороне таких «деятелей производства», как природа и капитал, отдавая исключительное предпочтение человеческому труду.
Не согласен он и с тезисом Маркса о возможности сведения сложного труда к простому. «Если ценность произведений определяется исключительно временем употребленной на них работы, – писал Чичерин, – то, очевидно, что всякая работа должна оплачиваться одинаково. Большее ли количество полезной стоимости работник производит в данное время или меньшее, цена должна быть одна» [33].
«Картина Рафаэля, – отмечал далее Чичерин, – будет иметь меньшую цену, нежели картина самого бездарного труженика, если она написана в более скорое время. Тут нельзя сослаться на то, что в картине Рафаэля оплачивается предыдущая подготовительная работа художника. Труженик и прежде мог работать даже более Рафаэля: гению достается легко то, что труженик никогда не достигнет даже самою кропотливою работаю». Из этого, считал Чичерин, приходится или признать, что ценность произведений определяется не одним количеством, но и качеством работы, или отвергнуть самые очевидные и неотразимые факты, как не имеющие законного основания [34].
Не принимая марксову формулу об общественном процессе сведения сложного труда к простому, который якобы совершается за спиной товаропроизводителей, Чичерин аргументировано доказывает, что если ссылаться на опыт, то не «работа» – мерило стоимостей, а деньги, причем соотношение различных «работ» определяется не свойством или продолжением самой «работы», а совершенно посторонними обстоятельствами.
Серьезной критике подвергает Чичерин учение Маркса об общественно необходимом труде. «По этой теории, – пишет Чичерин, – мы должны будем сказать, что на всемирном рынке цена товаров определяется средним рабочим временем всего человеческого рода, как единой рабочей силы… На деле, цена товаров определяется отнюдь не выводом среднего рабочего времени для всего человеческого рода, а просто борьбой частных сил. Более дешевые товары вытесняют с рынка более дорогие. Конкуренция же происходит вовсе не оттого, что разнообразные силы сводятся к одной, а именно оттого, что силы разные» [35].
Чичерин критикует Маркса за то, что он в своем анализе форм стоимости вводит в отношение обмениваемых товаров полезность, от которой он абстрагировался на всем протяжении своего исследования, а так же за то, что в относительной стоимости выражается стоимость, а в эквиваленте – полезность. По мнению Чичерина, это противоречит первому положению Маркса о том, что меновая стоимость одного товара выражается в потребительной стоимости другого. Отсюда Чичерин приходит к выводу, что анализ форм стоимости у Маркса движется на холостом ходу.
Чичерин находит противоречие и в утверждении Маркса, что при определенных условиях цена товара может быть выше или ниже стоимости.
Заслуга Чичерина как критика Маркса состояла в том, что он одним из первых сумел отчетливо разглядеть за пространными научными рассуждениями автора «Капитала» призыв к насильственному ниспровержению общественного строя. «Как видно, – писал Чичерин, оценивая социологические выводы „Капитала“, – тут дело идет о насильственном ниспровержении всего существующего общественного строя». Он утверждал, что Маркс сознательно пользуется невежеством рабочих «чтобы под именем науки проповедовать им учения, разрушительные для человеческого общества».
Делясь с читателями общими мыслями о социалистическом учении, Чичерин писал, что социализм не есть только случайное заблуждение человеческого ума. «…Он составляет необходимый момент в развитии мысли, но момент по своему содержанию, все-таки радикально-ложный. В нем выражается крайнее развитие исключительного идеализма, и сопряженное с этой крайностью отрицание частного во имя общего, поглощение лица государством, наконец, отрицание выработанного историей во имя фантастического будущего» [36].
Выход в свет в 1894 году третьего тома Капитала» значительно ослабил позиции сторонников трудовой теории ценности и трудовой теории прибыли Маркса и укрепил позиции сторонников австрийской школы предельной полезности. Многие бывшие сторонники учения Маркса, по признанию С. Н. Булгакова, были разочарованы, «когда выяснилась невозможность провести трудовую теорию ценности последовательно, без ограничений, через всю систему политической экономии» [37].
Большой интерес представляет предпринятая на рубеже веков видным русским экономистом-математиком и статистиком Владимиром Карповичем Дмитриевым (1869—1913) попытка доказать совместимость трудовой теории ценности и теории предельной полезности [38]. Не являясь сторонником трудовой теории ценности, Дмитриев в то же время полагал, что возражения о невозможности исчисления полных затрат труда на производство продукции не совсем обоснованы. В центре его исследования лежал анализ факторов, определяющих конкретную величину цены, начиная от издержек производства и кончая взаимоотношениями между спросом и предложением. Составив систему линейных уравнений, Дмитриев с ее помощью выразил одновременно произведенные затраты.
Предложенный русским ученым способ выражения полных затрат имел важное значение для дальнейшего развития экономической науки и получил заслуженное одобрение среди отечественных и зарубежных экономистов. Сравнивая метод Маркса с методом Дмитриева, немецкий экономист российского происхождения Л. Борткевич отмечал, что различие этих методов есть различие между арифметикой и алгеброй: Маркс пользовался арифметическим, а Дмитриев – алгебраическим способом выражения. Различие этих методов, отмечал Борткевич, состоит также в том, что у Дмитриева нет «дихотомии» в исследовании стоимости и цен: не абстрактная стоимость, а цена составляет непосредственный интерес Дмитриева. Кроме того, Дмитриев не следует установленному Марксом делению капитала на постоянный и переменный: прибыль у него есть следствие всего капитала [39].
На продуктивность подобного подхода указывал и М. И. Туган-Барановский. Еще в 1890 году он отмечал, что теория предельной полезности не только не опровергает теории Рикардо и Маркса, но и «правильно понятая, составляет неожиданное подтверждение учения о ценности названных экономистов» [40]. Позднее, критически пересмотрев учение Маркса, он несколько иначе формулирует свою мысль: теория предельной полезности – последнее слово экономической мысли нашего времени – лишь по чистому недоразумению противопоставляется учению о ценности Рикардо [41]. На самом же деле, она «вполне согласуется с теорией Рикардо и даже образует с ней одно неразрывное логическое целое» [42]. «Однако.., – уточнял Туган-Барановский, – нужно решительно отвергнуть, что теория прибавочной ценности [Маркса] стоит на почве учения о ценности классической школы. Ее логическая основа совершенно иная. Она исходит из абсолютной теории трудовой ценности; эта же последняя теория находится в безусловном противоречии с фактами действительности.
Никакими логическими ухищрениями нельзя доказать, что труд производства образует субстанцию ценности, когда есть множество предметов, имеющих ценность, хотя на производство их не затрачено ни малейшего труда, или имеющих ценность, далеко превосходящую трудовую стоимость их производства» [43].
* * *
Одним из важнейших направлений либеральной критики научного социализма являлся анализ общественного контекста экономического учения Маркса. Существенный вклад в это внес Бунге. В некоторых ранних своих работах, а также в «Очерках политико-экономической литературы» (1895) подробно разбирая марксову экономическую доктрину, изложенную в «Капитале», Бунге указывал на ее «катастрофический характер», слабую аргументацию, обвинял автора в абстрактном догматизме, тяжеловесности и малодоступности изложения, туманности терминологии. Логика его критики сводилась к тому, что ни в теории, ни в эмпирической реальности нельзя найти того, что капитализм должен потерпеть крах вследствие заложенных внутри системы экономических противоречий.
Рассматривая учение Маркса как утопическую историко-философскую спекуляцию, Бунге, подобно Бутовскому и другим критикам социализма, видел причину известной популярности марксизма в том, что это учение «обращается к хищническим инстинктам обездоленного человечества». Всякая попытка осуществления социалистических идей, пророчески писал Бунге, может завершиться только социальной катастрофой. «Скачок из царства необходимости в царство свободы, возвещенный марксистами, – утверждал он, – был бы скачком из царства признания права, труда, долга, совести, законности – или в царство деспотизма большинства и всеобщего рабства, или в царство анархии, где ничего не сдерживает личного индивидуального произвола, где человеку все дозволено, чего он ни пожелает. – Никогда, ни одно цивилизованное общество при таких условиях существовать не может» [44].
Разбирая содержание первого тома «Капитала», Бунге отмечал его перегруженность ненужными деталями, игру понятиями и словами, множество приводимых автором фактов, рисующих бедственное положение рабочих и злоупотребления предпринимателей-капиталистов. Нельзя, однако, сказать, отмечает Бунге, что эти факты, свидетельствующие о большой начитанности, могли служить материалом для выводов: они скорее представляют картину бессердечности и эгоизма части предпринимателей-капиталистов, которой, конечно, можно противопоставить изображение темной стороны нравов части рабочего класса (пьянство, распутство, варварское обращение в семье), чем в свою очередь так усердно занимались противники хозяйственных улучшений. Наконец, Маркс сообщает мнения писателей, с ним согласных, что, впрочем, еще не служит доказательством.
Давая подробный анализ исторических воззрений марксизма, Бунге отмечал, что хозяйство и в патриархальном семейном быту, и в селениях с общинным землевладением не исчерпывает форм экономического устройства первобытных народов, и что даже картина благоденствия населения, живущего в этих будто бы коммунистических обществах, нарисованная марксистами, не верна. Они находят, что в патриархальной семье назначение членов ее на работы, производство всех для всех, не для сбыта, а для собственного потребления, распределение произведенного по усмотрению главы семейства и прочее, не заключают в себе гнета, а, напротив, обеспечивают большую личную свободу, чем та, которую представляют современные общества. Между тем, чем далее простирается ограничение права собственности на личный труд и на произведения личного труда, чем значительнее несоответствие между возлагаемою работою и получаемым за нее вознаграждением, тем скорее возникают вместо мнимой семейной идиллии жестокие внутренние раздоры, а в случае смерти отца борьба между братьями за главенство.
В селе с общинным землевладением, вмещающем в себе иногда и патриархальные семьи, необеспеченное обладание земельными наделами, отобрание участков у семейства, лишившегося работников, способных вести хозяйство, господство то мироедов, то кулаков, смотря по обстоятельствам, все это создает ту нищету, которая проявляется во время неурожаев, и неоднократно сопровождалось мором в Европе во времена, не столь отдаленные, и не раз в настоящем столетии в Индии. Все эти факты, столь же известные, как и то, что в России в неурожайный 1891 год правительство было вынуждено израсходовать на продовольствие населения около 130 миллионов рублей, тогда как в Царстве Польском, где право земельной собственности основано на наполеоновском гражданском кодексе, население, несмотря на несоответствие его числа с обрабатываемой землею, при бывших недородах, обходилось без помощи государства и даже исправно уплачивало налоги! Наконец, в Западной Европе давно забыты запасные хлебные магазины, требующие от народа громадных жертв и поставку, и обновление хлеба, и соединенные с крупными потерями при хранении хлеба.
Свобода, которую видят марксисты в первобытных формах общежития, состоит нередко, даже при отсутствии рабства и закрепощения, в безусловном порабощении личности, в лишении человека самодеятельности и в отсутствии права на свой труд, при перспективе голодовки.
Переход к ремеслам и мелкой земельной собственности был шагом по пути улучшений; затем крупные предприятия, которые относительно положения рабочего класса и распределения результатов производства заставляют желать очень многого, вовсе не представляют того гнета, который преобладал в мелких ремесленных заведениях и на мелких землевладельческих участках.
Бунге блестяще доказал, что в посмертных выпусках «Капитала», грешащих, как и первый том, «беспрестанным смешением истинного и ошибочного», Маркс фактически уподобился тем экономистам, которые считали производительными только известные виды труда и, говоря словами Ф. Листа, утверждали, что «человек, воспитывающий людей, не производителен, а откармливающий свиней производителен». «…Маркс дошел до идеи непроизводительного труда, хотя бы последний способствовал удовлетворению потребности, и даже отрицает значение продолжительности труда, на которой основана теория абсолютной прибавочной ценности» [45].
Бунге обвинял Маркса в сознательном отвержении значения спроса и предложения, значения конкуренции, как понятий, разрушающих и его теорию прибавочной ценности, и ценности вообще, и саму фикцию марксовой версии капиталистического производства. Русский ученый обстоятельно и четко указал и на принципиально важную ошибку Маркса в отношении перспектив развития мелкого крестьянского землевладения, мелкой собственности, которая, по мнению автора «Капитала», якобы исключает развитие общественных, производительных сил труда, общественных форм труда, общественного сосредоточения капиталов, скотоводство в большом размере, прогрессивное применение науки. Разбирая в третьем томе «Капитала» различные виды земельного дохода, его образование, изменение и прочее и, столкнувшись с рентою, доставляемой мелкой крестьянской собственностью и являющейся не прибавочной ценностью, отбираемой капиталистом у крестьянина, а частью дохода, поступаемого в карман самого крестьянина, Маркс отнес мелкое землевладение к необходимой переходной ступени в земледелии и предсказал ему конец. Реальная же жизнь, свидетельствовал Бунге, доказывает обратное: «мелкая собственность процветает в странах с плодопеременной системою, кормит такие массы населения и дает такие ренты, на которые при крупной земельной собственности трудно рассчитывать» [46].
Бунге рассматривал социалистические учения, и в частности, экономическую теорию Маркса, не только как крайний протест против капиталистической эксплуатации, но и как «крайний протест против либерального направления смитовской школы». Продолжением же учения Смита об экономической свободе, призванным ограничить стихию рынка, гармонизировать общественные отношения, сделать их более человечными (на что сам по себе не способен рыночный механизм) он считал первую систему американского исследователя Кэри, перенесенную в Европу Бастиа и его последователями, а также историческую и статистическую школы. «Учение Кэри-Бастиа, – писал Бунге, – есть ни что иное, как обоснованная теория последователей Смита, основанная на положении, что все законные интересы согласны между собою – tous les interets legitimes sont harmoniques. Историческая школа пытается примирить различные доктрины и принимает, как для них, так и для хозяйственного устройства, известные исторические моменты, переживаемые каждым народом. Среди противоположных политико-экономических учений вырабатывается, наконец, статистическое направление, которое ищет в истории не характеристические моменты и типические периоды, но только материалы для выводов, и в исследованиях своих употребляет, по преимуществу, статистический метод. Таковы исследования Тука и Ньюмарча, и в особенности Шмоллера» [47].
Критикуя экономическую теорию Маркса, Бунге, как и другие представители либерального направления экономической науки, утверждал, что только индивидуальная свобода способна породить индивидуальную ответственность, без которой не может развиваться хозяйственная практика. Только обладая свободой действий, хозяйственный субъект способен вести дело с пользой для себя и для общества, добиваться эффективного использования ресурсов, внедрять новую технику и технологию. «Спрашивается, многие ли из бедняков, придавленных нищетой, – писал Бунге, – могут понять, что недвижимая собственность, наследство составляют условие для индивидуального развития человека и для упрочения семейного духа, что денежные капиталы вывели человека из состояния рабства и зависимости, что соперничество есть символ свободы личности, что социализм обращает человека если не в раба другого человека, то в раба общественного, обязанного за установленную работу получать содержание натурою и не иметь ничего своего и ничем не располагать; наконец, что с утратою свободы утрачивается также личная ответственность, тот сильный нравственный двигатель, без которого правильная общественная жизнь немыслима. Как понять это человеку, у которого нет собственности, нет видов на наследство, нет денежных капиталов; когда его давит соперничество собственника, капиталиста, заставляющих его за дневное пропитание работать до истощения сил? О каком семейном духе, о каком развитии личности и свободы может помышлять человек, не имеющий ни упроченного настоящего, ни надежд на будущее?» [48].
Серьезным просчетом Маркса Бунге считал предпочтение революционного пути развития эволюционному, реформаторскому, его неверие в социальные реформы как средство социальной коррекции и лечения общественных недугов. Для России реформаторство, с его точки зрения, имело принципиальное значение, поскольку объективно способствовало улучшению положения трудящихся как непременному условию успешного функционирования рыночного механизма, сохранения общественной стабильности.
Одним из слабых мест в теории Маркса многими либеральными экономистами признавалось игнорирование профессиональных рабочих организаций, убеждение, что в капиталистическом обществе предприниматель является неограниченным властелином судьбы рабочего. Автор «Капитала» высказывал уверенность в совершенной беззащитности рабочих перед произволом капиталистов. Эта убежденность основывалась на учении о так называемой «резервной промышленной армии». Горячо оспаривая классическую доктрину, Маркс незаметно сам становился на ее точку зрения. Справедливо обвиняя основоположников классической политэкономии в чрезмерном упрощении проблемы и отождествлении теории предложения труда с общим законом населения, Маркс сам грешил аналогичным недостатком, принимая, что «резервная армия» оказывает одинаковое давление на все разряды рабочих. Делая шаг вперед по сравнению с классической школой внесением в исследование вопроса о предложении труда правильной исторической перспективы, отмечал либеральный профессор В. Я. Железнов, Маркс довольствуется этим и не находит нужным продолжить анализ обстоятельным изучением состава рабочего класса в данный период. Как и для классической доктрины, для Маркса рабочие представлялись однородной массой. В действительности же и предложение труда происходит при различных условиях для различных разрядов рабочих. Рабочие группы обладают неодинаковой степенью сопротивляемости всякого рода неблагоприятным влияниям, в том числе и давлению «резервной армии» [49].
Либеральные критики Маркса справедливо обвиняли его в недооценке роли предпринимателя в экономической и социальной жизни, в известной профанации его психологического облика. В «капиталисте-собственнике» Маркс видел лишь примитивного инвестора и эксплуататора пролетариата, с никогда не угасающим стремлением захватить в свои руки все, что создается рабочими сверх покрытия их потребностей.
В тоже, время еще в период его работы над первым томом «Капитала», появились сочинения (Т. Брассей и другие авторы), в которых анализировался опыт предпринимателей, увязывавших проблему повышения заработной платы. рабочих с повышением производительности труда. Однако это не побудило Маркса к обстоятельному критическому разбору ситуации. Мысль о том, что производительность труда могла бы послужить фактором повышения заработной платы Марксу казалась нелепой. Сделанный Марксом в его работах вывод о постоянном тяготении заработной платы к обычной норме средств существования рабочего ничего не вносит в экономическую науку, а лишь повторяет давно известные положения, существовавшие в экономической теории 1840-х годов. Более того, взгляды Маркса по вопросам заработной платы, сложившиеся под сильным влиянием классической доктрины и отразившие в себе индивидуалистическую точку зрения, по мнению оппонентов, резко противоречили его общему социальному мировоззрению [50]. В «Капитале» Маркс доводит до последних пределов логического развития существовавшую когда-то в экономической науке глубоко ошибочную мысль о бесполезности для трудящихся классов совершающегося в современном обществе технического и технологического прогресса.
В работах либеральных экономистов было подвергнуто серьезному сомнению эсхатологическое учение Маркса о неизбежном обнищании народных масс в капиталистическом обществе. Уже в последней трети XIX века стало ясно, что это не так. Реальные успехи промышленного развития ведущих стран мира способствовали значительному подъему жизненного уровня трудящихся, разработке и реализации социальных программы борьбы с бедностью.
Позднее, когда выдвинутая Марксом теория обнищания масс проявила свое полное несоответствие действительным фактам, отдельные представители марксизма пытались «популярно» растолковать, что «на самом деле» имел в виду Маркс, когда писал об этом. Так, например, К. Каутский предлагал понимать эту теорию не в буквальном смысле «голода, нужды и лишений», а как углубление классовой розни. В период развитого капитализма, утверждал он, пролетариат борется не с нищетой в буквальном смысле, а с господствующим классом, который присваивает себе львиную долю доходов от промышленности и препятствует рабочим получить ту власть, которая им по праву должна принадлежать. По его мнению, промышленники не заинтересованы в постоянном улучшении положения рабочих, и каждое новое существенное улучшение будет добываться завоеванием. Рабочие будут бороться не за кусок насущного хлеба, а за свободу и власть [51].
Ф. Энгельс, переживший Маркса на 12 лет, также был вынужден признать существование в капиталистическом строе тенденций развития, противоречащих «железному закону» Лассаля и «теории обнищания» Маркса. Однако он не решился отказаться в принципе от идеи, которую усвоил и отстаивал с ранней молодости и ограничился только частными оговорками в предисловии ко второму изданию (1892 г.) своей книги «Положение рабочего класса в Англии».
Либеральными экономистами неоднократно подчеркивалась ошибочность точки зрения Маркса, согласно которой непрерывное распространение капиталистического производства поглотит все общество и в нем останутся соответственно лишь два класса – рабочие и капиталисты. Опровергая логику Маркса о пролетаризации большинства населения и о том, что коллективность, сплоченность, неэгоистичность рабочего класса якобы готовит его к авангардной роли в борьбе с капиталом и далее к руководству новым (социалистическим) обществом, они на фактах жизни доказывали, что структура рыночного хозяйства с течением времени не упрощается, а наоборот, становится более сложной, что в обществе значительно возрастают роль и значение средних слоев, в том числе научно-технической интеллигенции. Средние по состоятельности классы содействуют укреплению существующей социальной системы, ее демократизации. Это стало особенно ясно в связи с широким развитием акционерных форм собственности, с проявившейся уже в последней четверти ХIХ века во всех индустриально развитых странах тенденцией демократизации капитала, приведшей, в конечном итоге, к ликвидации такого понятия, как «пролетариат». Рожденный индустриальной эпохой социальный строй не представлялся либералам как нечто однородное и застывшее. Они видели возможности его саморазвития и самосовершенствования, движения в сторону гармонизации социальных отношений.
Критика экономических воззрений Маркса способствовала более четкому выяснению учеными-либералами многих принципиальных положений экономической науки. В этом отношении характерна эволюция взглядов И. В. Вернадского. Если в своей докторской диссертации, написанной в 1848 году, ученый проводил определенную разницу между доходом предпринимателя и доходом работника, то в заметках к книге Г. Шторха (1881) он отмечал, что только часть дохода капиталиста есть доход, связанный с владением. Значительная доля этого дохода может рассматриваться как заработная плата за труд по управлению предприятием и как страховая премия. «Если мы всмотримся глубже в капиталистический доход, – писал ученый, – то увидим следующие главные составные части его: он состоит из чистого дохода от владения, т. е. ренты, и из дохода собственно промышленного, который отчасти совпадает с заработною платою, и, наконец, из так называемой страховой премии» [52].
Существенным дополнением предпринятой либеральными экономистами критики общественного контекста экономического учения Маркса послужил подробный разбор положений экономического материализма, предпринятый в первой половине 1890-х годов одним из крупнейших русских ученых конца XIX – начала XX века Николаем Ивановичем Кареевым (1850—1931), известным не только как историк, но и как автор экономических работ. Пережив в начале своей научной карьеры определенное увлечение марксизмом, о чем свидетельствуют такие его работы, как «Крестьяне и крестьянский вопрос» и «Очерк истории французских крестьян с древнейших времен до 1789 года» (Варшава. 1881), в более зрелые годы Кареев резко пересмотрел свое отношение к этому учению, перешел на сторону критиков марксистских представлений о развитии мировой истории. В докторской диссертации «Сущность исторического прогресса и роль личности в истории» (СПб., 1890) и ряде последующих исследований Кареев дает критический анализ экономическому направлению в исторической науке, заложенному Марксом и поддерживаемому его последователями.
Возникновение этого направления в исторической науке Кареев объяснял двумя основными причинами, во-первых, естественным сближением между двумя науками – историей и политической экономией, которое выразилось и в образовании исторической школы, и в политической экономии, а, во-вторых, тем преобладанием, какое получили экономические отношения в самой исторической жизни XIX века, выдвинувшей на первый план социальный вопрос [53].
Подчеркивая важность данного научного движения для восполнения существенных пробелов в исторической науке, изучавшейся ранее с политической и культурной точек зрения на основе психологического идеализма, Кареев отмечал, что именно несостоятельность этой концептуальной основы в стремлении объяснить всю историю и породила направление, сводящее историю к экономической и материальной основе. «Рассуждая a priori, – писал историк, – нельзя не признать, что экономический материализм и родственные ему направления историологической мысли страдают такою же односторонностью: истина заключается лишь в сочетании обеих точек зрения, поскольку человек живет удовлетворением не одних материальных, но и духовных потребностей. Другую слабую сторону экономического материализма составляет его необоснованность в теоретическом отношении. Его родоначальники выразили его основные положения в форме аксиом, а сторонники направления стали лишь популяризировать эти положения, либо прилагать их к рассмотрению действительной истории» [54].
Главное затруднение, с каким встречается мысль при попытке обоснования экономического материализма, отмечал Кареев, заключается в том, чтобы объяснить из экономии духовную культуру. «Экономический материализм, конечно, сделает свой идейный вклад в научную теорию исторического процесса: относительная истинность его тенденции не подлежит спору, и нужно только желать, чтобы его представители побольше думали о теоретической обосновке своего учения и чтобы вместе с этим историки-экономисты делали побольше теоретических выводов из своих исследований…» [55]. Признавая крайний догматизм экономического материализма, ученый призывал его представителей, как и представителей психологического идеализма, встать на путь критического исследования.