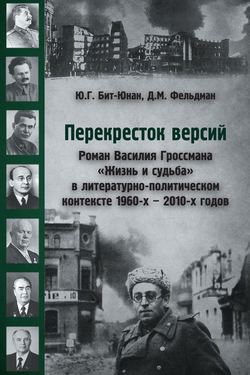Читать книгу Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов - Д. М. Фельдман - Страница 3
Часть I
Акции устрашения
Незамеченные уловки
ОглавлениеИстория публикаций романа «Жизнь и судьба» не раз характеризовалась мемуаристами и литературоведами. Причем хронологически исходной точкой повествования всегда была дата первой отправки рукописи за границу.
Сначала и не могло быть иначе. Роман публиковался с 1975 года, но лишь девять лет спустя Войнович на Франкфуртской книжной ярмарке впервые рассказал журналистам, что это он изыскал способ отправить гроссмановскую рукопись заграничным издателям.
В печати не критиковали версию, предложенную Войновичем. Подразумевалось, что эмигрант не должен объяснять, от кого и когда он получил рукопись, если не был знаком с Гроссманом. Очевидными считались причины умолчания.
Мемуары Липкина о Гроссмане изданы в 1986 году. Но там по-прежнему не объяснялось, каким образом переправлен крамольный роман за границу и почему не попал туда раньше.
Более того, акцентировалось, что Липкин не имеет отношения к заграничным гроссмановским изданиям. Он еще и упрек сформулировал: «Было бы лучше, если бы люди, каким-то образом сохранившие роман, нашли в себе смелость позаботиться о рукописи раньше».
Свою версию Липкин, как выше отмечено, опроверг в 1989 году. Не без пафоса заявил в напечатанном парижской газетой послесловии к мемуарам: «Моя жизнь сложилась так, что ее, эту жизнь, новая эпоха гласности и демократии наполнила особенным светом. Я должен об этом рассказать, чтобы прояснилась загадка опубликования романа В. С. Гроссмана»[1].
Читатели-современники понимали, что имел в виду мемуарист, говоря о «новой эпохе гласности и демократии». Такое пропагандистское клише в СССР уже традиционно соотносилось с деятельностью М. С. Горбачева, четвертый год занимавшего пост генсека.
Затем Липкин напомнил, что в мемуарах упрекнул не решавшихся отправить гроссмановскую рукопись за границу. И пояснил: «Это был упрек самому себе».
Отсюда вроде бы следовало, что далее он укажет конкретные обстоятельства, из-за которых не нашел «в себе смелость позаботиться о рукописи раньше». И Липкин сообщил: «Я поместил несколько стихотворений, вполне безобидных, в машинописном альманахе “Метрополь”. Авторы альманаха подверглись жестоким нападкам Союза писателей. Двух самых молодых, наименее защищенных, исключили из Союза. В знак протеста против расправы с молодыми я и моя жена, поэт Инна Лиснянская, вышли из Союза писателей».
Какими причинами обусловлены «жестокие нападки», кого исключили из ССП, только ли И. Л. Лиснянская и сам мемуарист протестовали – не сообщалось. Да и сам инцидент с альманахом «Метрополь» не датирован в послесловии, опубликованном парижской газетой.
Впрочем, он был еще памятен многим читателям: достаточно широко обсуждался в советской и эмигрантской прессе. Речь шла о проекте, инициаторами которого были В. П. Аксенов и В. В. Ерофеев. Затем к ним присоединился Е. А. Попов, а позже и другие[2].
Именно Ерофеев и Попов были исключены из ССП. Аксенов подал заявление о выходе из этой организации на следующий день.
Как известно, планировалось составить и выпустить альманах одновременно в СССР и за границей. Причем без цензуры. Руководство ССП не позволило реализовать проект, но уже оформленный художниками машинописный экземпляр – макет – удалось переправить через границу. Затем еще один. Первым книгу опубликовало американское издательство «Ардис» в 1979 году[3].
Из послесловия к липкинским мемуарам следовало, что о проекте заграничного издания мемуарист не знал. Участвовал только в подготовке «машинописного альманаха», вот и воспринял «жестокие нападки» как незаслуженные, да и непредсказуемые. Это, конечно, не так.
Результаты были предсказуемы, а вот сама история весьма туманна. Ни один из написавших о «Метрополе» не объяснил, на каком основании инициаторы проекта – советские литераторы-профессионалы – вдруг решили в конце 1970-х годов, что руководство Союза писателей не воспрепятствует изданию альманаха, составленного его участниками по собственному усмотрению, да еще и без контроля цензуры.
К этой проблеме мы еще вернемся. А пока существенно, что Липкин рассказал, как на него и Лиснянскую «обрушилась лавина преследований. Исключили из Литературного фонда, выбросили из поликлиники (что в отношении меня было противозаконным актом, так как ветеранов войны из поликлиник не выбрасывают), перестали печатать не только наши оригинальные произведения, но и переводы, получившие в свое время высокую оценку на страницах печати. Были и другие прелести: угрозы по телефону, требования покинуть родину, посещения квартиры в наше отсутствие с нарочито оставленными следами, вызовы на комиссии, на которых с нами разговаривали компетентные лица».
Список «преследований» обозначал, во-первых, что мемуарист лишился всех доходов. Во-вторых, лишен был и привилегий, которыми пользовались литераторы, платившие взносы в элитарный профессиональный союз – Литературный фонд. Например, права на лечение в привилегированном медицинском учреждении – литфондовской поликлинике. А в-третьих, Липкин стал жертвой шантажа.
Точно ли так было – другой вопрос. Главное, Липкин отметил: «В этих условиях я не мог сообщить о книге Гроссмана то, что собираюсь сделать сейчас».
Разумеется, «сейчас» относилось ко времени заграничной публикации цитированного послесловия. Однако в СССР инцидент с альманахом был уже более двух лет как объявлен политической ошибкой предыдущего руководства. Соответственно, упомянутые, хотя и не названные мемуаристом «самые молодые, наименее защищенные» авторы «Метрополя» – Ерофеев и Попов – официально признаны «восстановленными в Союзе писателей».
Аналогично Липкин и Лиснянская были «восстановлены в Союзе писателей». Отнюдь не позже Ерофеева и Попова.
Не упоминая об этом, Липкин далее изложил свою версию «спасения» рукописи. А еще сообщил, что к нему Гроссман – незадолго до смерти – обратился с просьбой. Она воспроизведена текстуально: «Не хочу, чтоб мой гроб выставляли в Союзе писателей. Хочу, чтоб меня похоронили на Востряковском еврейском кладбище. Очень хочу, чтобы роман был издан – хотя бы за рубежом».
Сказал ли Гроссман такое, нет ли, уже не проверить. Важно, что мемуарист подчеркнул: «Третье завещание моего друга я выполнил, хотя и не сразу».
Значит, Липкин «не сразу» выполнил «третье завещание» из-за «лавины преследований». Вот и отметил: «И все же в конце 1974 года я принял серьезное решение. Я обратился к Владимиру Николаевичу Войновичу с просьбой помочь мне опубликовать роман Гроссмана. Я выбрал для этой цели Войновича потому, что был с ним в дружеских, да еще и в соседских отношениях и знал, что у него есть опыт печатания за рубежом».
Немалый имелся опыт, и это было широко известно к 1989 году. Липкин по-прежнему ориентировался на фоновые знания читателей-современников. Ну а далее вкратце описал, каким образом Войнович готовил отправку рукописи за границу.
Все эти сюжеты – о прозорливости Липкина, предвидевшего обыск в квартире Гроссмана, «спасении» рукописи, помощи Войновича и конечной удаче – весьма эффектны. Они воспроизведены в последующих изданиях мемуаров, неоднократно пересказаны журналистами и литературоведами.
Но осталась словно бы незамеченной хронологическая несообразность.
«Лавина преследований» не могла обусловить «серьезное решение» Липкина – обратиться к Войновичу с просьбой оказать помощь в издании гроссмановского романа.
Тут вообще нет причинно-следственной связи. Липкин, по его же словам, решил отправить гроссмановскую рукопись за границу «в конце 1974 года», а Ерофеев и Попов были исключены из ССП на пять лет позже.
Значит, не к месту употреблен оборот «и все же», т. е. невзирая на указанные обстоятельства. Их не было в 1974 году.
Но Липкин не случайно использовал оборот «и все же», равным образом не датировал скандал из-за «Метрополя». Такие уловки позволили мемуаристу соотнести «лавину преследований» с его решением просить Войновича о помощи в издании гроссмановского романа.
Сюжеты объединены сообразно авторскому замыслу. Липкин отвлекал внимание читателей от проблемы, оставшейся за рамками обсуждения: почему же он лишь тогда решил отправить рукопись за границу, когда минуло десять лет после смерти Гроссмана.
Отвлечь удалось. Проблема десятилетнего перерыва не ставилась. Никогда.
Вероятно, поначалу сыграли главную роль соображения деликатности. Нет сведений о попытках журналистов и литературоведов расспросить Липкина, в силу каких причин он десять лет ждал, прежде чем решил отправить гроссмановскую рукопись за границу. Тут подразумевались бы обвинения в недостатке пресловутой смелости. А мемуарист их упредил.
Опубликованное парижской газетой послесловие к липкинским мемуарам вошло в книгу «Жизнь и судьба Василия Гроссмана и его романа». Она и переиздается в таком составе.
Как говорится, прошли годы. Но так и не ставился вопрос о том, почему рукопись гроссмановского романа была отправлена за границу лишь через десять лет после смерти автора.
Казалось бы, вопрос этот сам собой подразумевался. Но оставался словно бы незамеченным. Как будто всегда так и происходило, хотя на самом деле – случай крайне редкий.
Уместно подчеркнуть: мы решаем проблему научную, а не этическую. Вот почему нам важно не только сказанное Липкиным, но и то, о чем он счел нужным умолчать. Нас интересует связь истории публикаций гроссмановского романа с литературными событиями периода, отделявшего арест рукописей от первой отправки утаенного экземпляра за границу.
1
См.: Липкин С. Рукописи не горят. Как был спасен роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» // Русская мысль. 1989. 5 мая.
2
См.: Ерофеев В. В. Время «Метрополя» // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР 1950-е – 1980-е. В 3 тт. М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т. 3. С. 307–312; Дело «Метрополя». Стенограмма расширенного заседания секретариата МО СП СССР от 22 января 1979 года / Подгот. текста, публикация, вступ. статья и коммент. М. Заламбани // Новое литературное обозрение. 2006. № 82. С. 243–281.
3
См.: Метрополь. Литературный альманах / Сост. В. П. Аксенов и др. М.: Анн Арбор; Ардис, 1979.