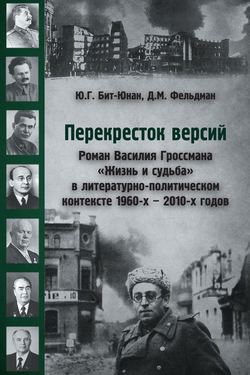Читать книгу Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов - Д. М. Фельдман - Страница 6
Часть I
Акции устрашения
Дело бездельника
ОглавлениеЛипкин акцентировал преемственную связь Гроссман-Солженицын. Аналогично и Берзер. Однако для сотрудницы «Нового мира» – судя по ее мемуарам – оказалось не менее важным еще одно событие, точнее, литературный скандал, последовавший за триумфом журнала. И это она также соотнесла с биографией Гроссмана. А Липкин – не упомянул.
Скандал тогда разразился громкий. 13 марта 1964 года районным судом в Ленинграде осужден двадцатитрехлетний поэт, будущий нобелевский лауреат И. А. Бродский.
Многие современники утверждали, что обвинительный приговор Бродскому знаменовал окончание хрущевской «оттепели». Впрочем, спор о границах этого периода заведомо непродуктивен.
Приговор же был сравнительно мягким – пятилетняя ссылка в северные районы страны, принудительные работы. За то, что Бродский «вел паразитический образ жизни»[7].
Вне реалий эпохи обвинение выглядит абсурдно. Однако тогда оно было достаточным для привлечения к уголовной ответственности. Так, статья 12 принятой в 1936 году Конституции СССР гласила: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина…»[8].
Речь шла отнюдь не о любой работе, приносящей доход работнику. Суть требования определялась понятием «общественно полезный труд».
Имелась в виду обязанность каждого гражданина работать на государство. Что и конкретизировалось принятым 4 мая 1961 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни»[9].
Едва ли не все, кто не работал на государство, оказались под угрозой привлечения к ответственности. Указ гласил: «Установить, что совершеннолетние трудоспособные граждане, не желающие выполнять важнейшую конституционную обязанность – честно трудиться по своим способностям, уклоняющиеся от общественно полезного труда, извлекающие нетрудовые доходы от эксплуатации земельных участков, автомашин, жилой площади или совершающие иные антиобщественные поступки, позволяющие им вести паразитический образ жизни, подвергаются по постановлению районного (городского) народного суда выселению в специально отведенные местности на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества, нажитого нетрудовым путем, и обязательным привлечением к труду по месту поселения».
Прагматика тут ясна: совершеннолетний гражданин СССР обязан до пенсионного возраста работать на государство, даже если к этому не вынуждают финансовые обстоятельства. Указ – напоминание о базовой правовой установке «первого в мире социалистического государства».
Он, как известно, отражал изменения на рынке труда послесталинской эпохи. В контексте либерализации хрущевским правительством были отменены введенные на исходе 1930-х годов нормы права, запрещавшие увольнение советского гражданина с работы лишь по его желанию, но без согласия администрации предприятия или учреждения. Отмена и позволила многим игнорировать конституционно закрепленную обязанность – работать на государство, причем там, где указано представителем государственной власти.
В СССР цитированный документ именовали «указом о тунеядцах». Международную известность он получил из-за «дела Бродского».
Начиналось оно – по обыкновению – с пропагандистской кампании. 23 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» напечатана за тремя подписями статья «Окололитературный трутень»[10].
Заголовок агрессивный. Но далее – зачин эпический. Сказано, что уже несколько лет, как «в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были вельветовые штаны, в руках – неизменный портфель, набитый бумагами. Зимой он ходил без головного убора, и снежок беспрепятственно припудривал его рыжеватые волосы».
После эпического зачина – конкретизация. Авторы сообщили, кого же имели в виду: «Приятели звали его запросто – Осей. В иных местах его величали полным именем – Иосиф Бродский».
Вот кто, значит, «окололитературный трутень». Далее – список провинностей: «Бродский начал прилагать все усилия, чтобы завоевать популярность у молодежи. Он стремится к публичным выступлениям, и от случая к случаю ему удается проникнуть на трибуну. Несколько раз Бродский читал свои стихи в общежитии Ленинградского университета, в библиотеке имени Маяковского, во Дворце культуры имени Ленсовета. Настоящие любители поэзии отвергали его романсы и стансы. Но нашлась кучка эстетствующих юнцов и девиц, которым всегда подавай что-нибудь “остренькое”, “пикантное”. Они подняли восторженный визг по поводу стихов Иосифа Бродского…».
Стихи и биография автора характеризовались далее так, чтобы читатель убедился: Бродский – идейный противник советского режима, да и как поэт не состоялся.
Для привлечения к уголовной ответственности этого было еще мало. И авторы статьи указывали, что один из друзей Бродского уже осужден «за уголовное преступление».
Затем сообщалось, что Бродский – вместе с позже осужденным приятелем, бывшим летчиком – планировал захват самолета, на котором оба намеревались пересечь советскую границу. А еще они собирались передать некоему иностранцу рукопись антисоветского философского трактата для публикации за границей под любым псевдонимом. Обозначен был источник сведений: «Перед нами лежат протоколы допросов…».
Имелись в виду протоколы допросов уже осужденного приятеля Бродского. Однако не объяснялось, на каком основании авторы статьи получили доступ к таким материалам. Далее – главный тезис: противник режима, лишь по недоразумению избежавший уголовной ответственности, «продолжает вести паразитический образ жизни. Здоровый 26-летний парень около четырех лет не занимается общественно полезным трудом. Живет он случайными заработками; в крайнем случае, подкинет толику денег отец – внештатный фотокорреспондент ленинградских газет, который хоть и осуждает поведение сына, но продолжает кормить его. Бродскому взяться бы за ум, начать, наконец, работать, перестать быть трутнем у родителей, у общества. Но нет, никак он не может отделаться от мысли о Парнасе, на который хочет забраться любым, даже самым нечистоплотным путем».
Возраст Бродского указан неверно, но ошибка тут не принципиальна. Главное, не сказано, что за «случайные заработки».
Умолчание, разумеется, неслучайное. Если Бродский работал, получая законным образом хотя бы минимально необходимые доходы, значит, он уже не «тунеядец». Стало быть, вынесенная в заглавие статьи характеристика – «окололитературный трутень» – неуместна.
Авторы обошлись без подробностей. Итоговый вывод – обращение к власти: «Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде».
Подразумевался цитированный выше Указ Верховного Совета СССР. Его применение, настаивали авторы статьи, необходимо: «Не только Бродский, но и все, кто его окружает, идут по такому же, как и он, опасному пути. И их нужно строго предупредить об этом. Пусть окололитературные бездельники вроде Иосифа Бродского получат самый резкий отпор. Пусть неповадно им будет мутить воду!».
8 января 1964 года та же газета опубликовала подборку читательских писем. Читатели требовали наказать «тунеядца»[11].
Разумеется, письма были заранее подготовлены. Еще до публикации статьи. Тут организаторы пропагандистской кампании следовали традиции. Прием, именовавшийся «откликами читателей», был издавна апробирован. Таким образом и демонстрировалось, что инициатива уголовного преследования исходит «от народа».
В данном случае подразумевалось, что население Ленинграда, солидаризовавшись с авторами статьи, требовало наказать «окололитературного трутня». Согласно традиционной пропагандистской установке, представителям власти надлежало реагировать на «письма читателей». Не прошло и недели – арест Бродского[12].
Разумеется, подготовка кампании велась при участии КГБ. Там получали сведения о настроениях молодежи, оттуда поступали распоряжения в милицию, благодаря чему авторы статьи ознакомились с материалами следствия по делу осужденного приятеля Бродского.
Однако КГБ опять был лишь инструментом. Не его сотрудниками разрабатывалась концепция судебного процесса. И не они контролировали развитие событий.
Такого рода задачи ставил ЦК партии, решение же контролировалось местными функционерами. Узнаваемый – сусловский – modus operandi.
Правда, инициаторами судебного процесса вряд ли планировались масштабы последствий. Скандал, вызванный «делом Бродского», стал настолько громким, что оказал существенное влияние на международные контакты советского государства.
Как известно, присутствовавшая в зале суда журналистка Ф. А. Вигдорова стенографировала почти все сказанное в ходе судебных заседаний. Вскоре ее записи получили широкое «самиздатовское» распространение. Попали они и за границу. Там были изданы книги об этом процессе[13].
Суд в Ленинграде был осмыслен как пример вопиющего беззакония. И не потому, что вне советских реалий обвинение выглядело абсурдным. Благодаря записям Вигдоровой стало понятно: доказать виновность Бродского не удалось ни до суда, ни в ходе судебных заседаний.
Отсюда вроде бы следовало, что Бродского карали именно как поэта. За литературную деятельность. Пресекали ее посредством ссылки. Соответственно, обвинение в «тунеядстве» было лишь предлогом. На этом и настаивали иностранные журналисты. А вслед за ними – уже на исходе 1980-х годов – отечественные мемуаристы и литературоведы.
Пафос их рассуждений был традиционно публицистическим. Вот почему вне сферы внимания оставались явные противоречия.
Результаты операции, во-первых, не соответствовали уровню ее подготовки и пропагандистского обеспечения. Можно было бы обойтись гораздо меньшими усилиями, чтобы выслать Бродского из Ленинграда.
Во-вторых, подсудимому не инкриминировалось что-либо относящееся к области пресловутой «антисоветской пропаганды». Содержание его стихов не рассматривалось судом.
Ну а в-третьих, не удалось пресечь литературную деятельность Бродского. Ссылка не изменила ничего.
Получается вроде бы, что выбор средств не соответствовал цели. Однако на самом деле это не так.
Средства выбирал Суслов. А не соответствовали они той цели, о которой четверть века спустя рассуждали публицистически ориентированные журналисты, литературоведы и мемуаристы.
Выбранные средства другой цели соответствовали. Суслов, по своему обыкновению, решал задачи государственного масштаба.
Как известно, к началу 1960-х годов советская интеллектуальная элита отчасти утратила прежний страх перед властью. «Дело Пастернака» впервые показало, что последствия неповиновения уже не таковы, какими были в сталинскую эпоху. Потому Суслов демонстрировал: государство располагает достаточными средствами, чтобы защитить свою монополию в любой области, включая издательскую.
7
См., напр.: Лосев Л. В. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 77–85.
8
СССР. Конституция (издание на языках союзных республик). М.: Издание ЦИК СССР, 1937.
9
См.: В Президиуме Верховного Совета СССР // Правда. 1961. 5 мая.
10
Ионин А., Лернер Я., Медведев М. Окололитературный трутень // Вечерний Ленинград. 1963. 29 нояб.
11
См.: Тунеядцам не место в нашем городе // Вечерний Ленинград. 1964. 8 янв.
12
См., напр.: Лосев Л. В. Указ. соч. С. 88–91. См. также: Гуреев М. А. Иосиф Бродский. Жить между двумя островами. М.: АСТ, 2017. С. 200.
13
См., напр.: Эткинд Е. Процесс Иосифа Бродского / Ефим Эткинд. London: Overseas publ. interchange, 1988. См. также: Suđenje Josifu Brodskom [Текст] / zapisala Frida Vigdorova; prired. i prev. Radojica Nešović. Novi Sad: Akademska knjiga, 2015.