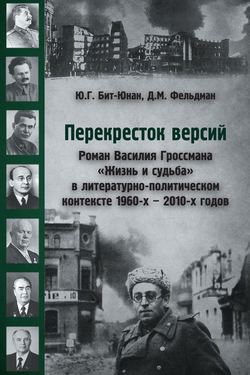Читать книгу Перекресток версий. Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» в литературно-политическом контексте 1960-х – 2010-х годов - Д. М. Фельдман - Страница 7
Часть I
Акции устрашения
Акция устрашения
ОглавлениеСовременникам была очевидна прагматика статьи, опубликованной в газете «Вечерний Ленинград» 8 ноября 1963 года. Бродский объявил себя поэтом, что – в советской традиции – подразумевало статус профессионального литератора, имеющего право не работать постоянно на каком-либо предприятии или в учреждении. Однако решать, кого наделить привилегиями такого рода, надлежало подразделениям СП. В данном случае – ленинградским. Они решение не принимали, следовательно, «окололитературный трутень» покусился на государственную монополию.
Формально, разумеется, преступления не было. Реально же – налицо.
Пропагандистская кампания, начавшаяся до суда и продолжавшаяся даже после вынесения приговора, понадобилась, чтобы современники уяснили прагматику «дела Бродского». Это была акция устрашения.
Но вовсе не Бродского устрашали. Объектами устрашения были покровительствовавшие обвиняемому литературные знаменитости.
Прежде всего, Ахматова. В ее ближайшее окружение и входил Бродский.
Как у многих советских поэтов, основным источником доходов Ахматовой оставались переводы. Главным образом с подстрочника. Благодаря ее связям аналогичные заказы получали и друзья. Их привлекали, конечно, не столько заработки, дебютантам платили крайне мало, сколько возможность обрести – в перспективе – официальный статус поэта-переводчика. Это был пройденный многими путь.
Казалось бы, обычная ситуация: всемирно знаменитый поэт и молодые ученики. К тому же оказанная помощь не подразумевала использование официальных полномочий. У Ахматовой таких и не было никогда.
Однако роль мэтра не полагалась Ахматовой, ошельмованной в 1946 году специальным постановлением ЦК КПСС. Попытка Симонова дезавуировать скандальный документ хотя бы десять лет спустя не удалась – даже при негласной поддержке высокопоставленных функционеров, противников Суслова. Тот по-прежнему защищал цельность идеологии.
Была еще одна причина, в силу которой Ахматовой не полагалась роль мэтра. Задача отбора перспективных дебютантов – государственная. Ее решали уполномоченные на то организации.
К примеру, Литературный институт. Там получали гуманитарное образование будущие прозаики и поэты, драматурги и критики. Занятия проводили вузовские преподаватели соответствующих дисциплин, специализация – под руководством известных литераторов в так называемых мастерских.
Низшим уровнем считались городские литературные объединения, их курировал тоже ССП. Они создавались как аналоги упомянутых выше «мастерских». Занятия вели литераторы-профессионалы, их работа оплачивалась, они и рекомендовали материалы к публикации – по соответствующей квоте.
Всю эту организационную структуру курировали специальные комиссии при региональных отделениях СП. Что и называлось «работой с молодыми писателями».
Ахматовское окружение – своего рода вызов существовавшей тогда структуре. Вот литературные функционеры и выбрали Бродского в качестве обвиняемого. Цель – устрашение всех, кто нарушал правила, пусть и неписаные.
Бродский, как известно, пренебрегал требованиями социализации, обязательными для намеревавшегося получить статус профессионального литератора. Поступать в какое-либо высшее учебное заведение не пытался, да и среднюю школу не окончил. Работу выбирал только временную, к примеру, в геологических экспедициях. Летнего заработка там – при жесточайшей экономии – хватало до следующего сезона. При этом с успехом выступал на литературных вечерах, изучил два иностранных языка, опубликовал несколько переводов, готовились к печати и новые[14].
Если пользоваться мандельштамовскими дефинициями, можно отметить, что в советскую литературу Бродский входил, не спросив разрешения. Идея показательного судебного процесса была востребована ЦК партии. Обратившись к опыту, там модернизировали инструментарий защиты издательской модели.
Конечно, в ахматовском окружении могли бы найти и другую кандидатуру на роль обвиняемого. Разница оказалась бы непринципиальной.
Однако ближайшие друзья обвиняемого – поэты А. Г. Найман и Е. Б. Рейн – были несколько менее уязвимы в аспекте уголовного преследования. Потому что более социализированы. Окончили Ленинградский технологический институт, получили дипломы инженеров и постоянную работу по специальности. Публиковали они пока что лишь переводы[15].
Бродский выбран был как наиболее уязвимый. Ахматовой же не предъявили какие-либо претензии, зато судебный процесс демонстрировал: всемирно знаменитый поэт не в состоянии защитить ученика и друга.
Судебный процесс готовился, подчеркнем еще раз, в качестве акции устрашения. Но организаторы не учли важное обстоятельство: у них к началу 1960-х годов появились оппоненты, готовые полемизировать даже в зале суда. Вот почему «дело Бродского» и получило мировую известность.
Заступников у подсудимого оказалось не так уж мало. Известные писатели, литературоведы, вузовские преподаватели, журналисты.
Среди заступавшихся – признанный в СССР классиком стихотворного перевода С. Я. Маршак. Он действовал последовательно и энергично[16].
Не менее авторитетный Чуковский, считавшийся конкурентом Маршака, тоже вступился за Бродского. Защитить его пытались Эренбург и Паустовский[17].
18 февраля 1964 года – первое заседание районного суда под председательством судьи Е. А. Савельевой. И обстановка к тому времени была, можно сказать, накалена.
Вигдорова акцентировала, что суд заведомо необъективен. Савельева это и не скрывала -
«Судья: Чем вы занимаетесь?
Бродский: Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…
Судья: Никаких “я полагаю”. Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! (Мне): Сейчас же прекратите записывать! А то – выведу из зала. (Бродскому): У вас есть постоянная работа?
Бродский: Я думал, что это постоянная работа.
Судья: Отвечайте точно!
Бродский: Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю…
Судья: Нас не интересует “я полагаю”. Отвечайте, почему вы не работали?
Бродский: Я работал. Я писал стихи.
Судья: Нас это не интересует. Нас интересует, с каким учреждением вы были связаны.
Бродский: У меня были договоры с издательством.
Судья: У вас договоров достаточно, чтобы прокормиться? Перечислите: какие, от какого числа, на какую сумму?
Бродский: Точно не помню. Все договоры у моего адвоката.
Судья: Я спрашиваю вас.
Бродский: В Москве вышли две книги с моими переводами… (перечисляет).
Судья: Ваш трудовой стаж?
Бродский: Примерно…
Судья: Нас не интересует “примерно”!
Бродский: Пять лет.
Судья: Где вы работали?
Бродский: На заводе. В геологических партиях…
Судья: Сколько вы работали на заводе?
Бродский: Год.
Судья: Кем?
Бродский: Фрезеровщиком.
Судья: А вообще какая ваша специальность?
Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.
Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?
Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?
Судья: А вы учились этому?
Бродский: Чему?
Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят… где учат…
Бродский: Я не думал, что это дается образованием.
Судья: А чем же?
Бродский: Я думаю, это… (растерянно)… от Бога…
Судья: У вас есть ходатайства к суду?
Бродский: Я хотел бы знать, за что меня арестовали.
Судья: Это вопрос, а не ходатайство.
Бродский: Тогда у меня ходатайства нет».
Диалог характерный. Савельева атаковала, Бродский защищался. Каждый решал свою задачу. Судья выполняла заказ, пусть и вопреки закону, подсудимый же отстаивал свою репутацию.
Вполне очевидно, что подсудимый не желал принять риторические условия, навязываемые судьей. Та начала с вопроса о роде занятий, имея в виду пресловутый «общественно полезный труд», а Бродский понятие «работа» противопоставлял другому – «праздность». Настаивал, что праздным не был. Однако по условиям игры тут выигрывал задававший вопросы, а не отвечавший на них.
Бродскому пришлось все же принять навязанные условия. Ну а Савельевой явно не хватало доказательств, чтобы обосновать выдвинутые обвинения: у подсудимого имелись документы, подтверждавшие наличие легального заработка, хоть и скудного. В этом случае применение Указа Верховного Совета СССР становилось проблематичным.
Далее, как явствует из диалога, Савельева несколько изменила тактику, потребовав формальное подтверждение статуса поэта. Бродский же лукавил. Нет оснований сомневаться в том, что он понял вопрос судьи: «Кто причислил вас к поэтам?».
Речь шла не о признании читателей. Имелся в виду документ, подтверждавший право не работать постоянно на государство.
Таким документом могло быть удостоверение состоявшего в каком-нибудь отделении СП или справка, выданная подобного рода организацией. Вот это и требовала предъявить Савельева. Бродский же ушел от прямого ответа. Однако не преминул обозначить: вне советских реалий вопрос судьи абсурден.
Нет оснований сомневаться: Бродский понимал, что все сказанное им в ходе судебных заседаний будет широко известно. Догадывалась о том и Савельева. Вот почему и пыталась запретить Вигдоровой стенографировать.
Найман в мемуарах утверждал, что воспроизводит суждение Ахматовой об итогах судебных баталий. По его словам, когда Бродского «отправили в ссылку на север, она сказала: “Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял”»[18].
Следует отсюда, что Ахматова рассуждала о литературной репутации. И на вопрос Наймана «о поэтической судьбе Мандельштама, не заслонена ли она гражданской, общей для миллионов, ответила: “Идеальная”».
Допустимо, что Ахматова именно так и говорила. По крайней мере, аналогичные суждения формулировала не раз. Настаивала, что судьба настоящего, значит, искреннего писателя в советском государстве может быть лишь трагической. Именно потому и мандельштамовская – «идеальная»: смертью в лагере он искупил все свои компромиссы с режимом.
В биографии же ленинградского поэта 1960-х годов суд был своего рода контрапунктом. Пользуясь нынешней терминологией, можно констатировать, что Бродский свой имидж создал. Не выказывал страха, наоборот, иронизировал.
Однако не мог Бродский не осознавать, что известность если и придет, так не скоро, а потому не защитит. Его уже поместили в тюрьму до суда, так что наиболее вероятная перспектива – ссылка и принудительные работы. Смерть тоже близка: врожденный порок сердца. И сердечный приступ был в тюремной камере.
Вероятно, риск не казался поначалу чрезмерным. Формально Бродский не подлежал уголовной ответственности за «тунеядство». Это и доказывал адвокат. Но итог был изначально предопределен.
13 марта началось второе судебное заседание. Справки о гонорарах и договорах с издательствами, равным образом ходатайства авторитетных писателей и литературоведов, предоставленные адвокатом, не были приняты Савельевой. Она потребовала свидетельство из местной Комиссии по работе с молодыми писателями и получила официальный документ, гласивший: «Бродский не является поэтом».
Вне советских реалий ответ выглядел абсурдно. С учетом же их вполне понятно, что хотел сказать автор. Ленинградское отделение СП не предоставляло Бродскому право не работать постоянно на государство. Итог – обвинительный приговор.
Да, Бродский рисковал. Не только свободой и советской литературной карьерой. Подчеркнем еще раз: высока была вероятность смерти от сердечного приступа в тюрьме или по месту ссылки. Зато в перспективе он мог выиграть репутацию и – развить успех.
Так и случилось. Правда, не вскоре.
Берзер в мемуарах сочла нужным подчеркнуть, что Гроссман сочувствовал осужденному. По ее словам, уже в больнице «читала ему вслух запись процесса Бродского, сделанную Фридой Вигдоровой. Он (что бывало редко) повернулся лицом к стенке, и я не видела, дремлет ли, слышит ли. Но догадывалась, что слышит, потому что ни разу не прервал – ни стоном, ни кашлем (а это трудно).
Когда я кончила:
– Я как будто провалился в туман, но слышал все, каждое слово.
Потом, помолчав:
– Бедный мальчик… Как это навалилось на него…».
Вскоре, согласно Берзер, в палату вошла медицинская сестра. Была она «толстая, мрачная и злая.
Она что-то резко сказала Василию Семеновичу. После ее ухода:
– Она разговаривает со мной, как судья с Бродским…
И снова:
– Бедный мальчик…».
В данном случае Берзер доказывала, что Гроссман, даже больной, умирающий, не утратил присущую ему способность воспринимать чужую беду как свою. А насколько точно переданы его слова – неизвестно.
Зато бесспорно, что Берзер считала «дело Бродского» значимым элементом в биографии Гроссмана. Событием, формирующим биографический контекст.
Берзер в данном случае точна. Связь ареста гроссмановского романа и «дела Бродского» прослеживается на уровне телеологии. В обоих случаях цель акций – защита государственной издательской монополии посредством устрашения потенциальных нарушителей.
В марте 1964 года Ахматовой и другим покровителям Бродского дан был урок: не им формировать сообщества, где определяется, кого считать поэтом. Это компетенция официально уполномоченных организаций. Без разрешения таковых нет пути к статусу профессионального литератора, а нарушители правил лишь провоцируют карательные меры.
Следует из сказанного выше, что цензурное разрешение солженицынской повести не противоречило аресту гроссмановской рукописи и «делу Бродского». Парадокса не было.
Издание солженицынской повести эмблематизировало продолжение заявленной Хрущевым либерализации. Пресловутой «оттепели». Арест рукописи Гроссмана и «дело Бродского» – сусловские коррективы. В целом же политика была непротиворечивой. Функционеры стремились режим сохранить, а разногласия относились только к масштабам уступок в области идеологии.
После судебного приговора Бродскому минуло полгода, когда умер Гроссман. В случае иностранной публикации его романа уже некого было бы привлекать к уголовной ответственности за антисоветскую пропаганду. Но Липкин не отправил за границу рукопись.
О причинах можно спорить. Допустимо, что силен был шок, вызванный «делом Бродского». Оно демонстрировало: советское правительство готово по-прежнему нарушать закон ради охраны своей монополии в литературно-издательской области. Соответственно, КГБ пресекались любые попытки отправить чьи-либо рукописи за границу. Значительно усилен был контроль за иностранцами, ведь именно они занимались отправкой непосредственно. Следили и за теми, кто с ними общался.
Допустимо, что Липкин после смерти Гроссмана не рискнул заняться отправкой рукописи, опасаясь слежки. И долго еще избегал опасности. Например, предполагал, что не исключено привлечение к уголовной ответственности вдовы или дочери автора крамольного романа.
Многое допустить можно, вот только подтвердить нечем. Тут актуально старинное присловье архивистов: без документа нет аргумента.
Но, как известно, отсутствие знака тоже может – в ряде контекстов – считаться значимым. Потому характерно, что Липкин о «деле Бродского» не упомянул. Как будто и не слышал.
Однако не слышать не мог. Его знаменитые коллеги-переводчики за Бродского вступались. Липкин – нет.
Разумеется, не только он не вступился. И соображения тут могли быть разные. Допустим, полагал, что хранившему гроссмановскую рукопись не следует привлекать к себе внимание КГБ.
Объяснить можно и так. Но существенно, что Липкин в мемуарах обошелся без объяснений.
14
См., напр.: Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Эксмо, 2004. С. 20–65; См. Также: Лосев Л. В. Указ. соч. С. 37–76.
15
См., напр.: Чуковский К. И. Дневник 1901–1969. М.: ОЛМА-ПРЕСС; Звездный мир, 2003. Т. 2. С. 416.
16
См., напр.: Там же.
17
См. подробнее: Лосев Л. В. Указ. соч. С. 95–99.
18
Здесь и далее цит. по: Найман А. Г. Рассказы о… М.: АСТ, 2017. С. 294.