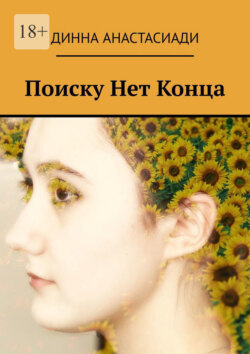Читать книгу Поиску Нет Конца - Динна Анастасиади - Страница 3
ПРЕЛЮДИЯ, будто из другой жизни
СКЕЛЕТЫ И ШКУРЫ
рассказ
Оглавление«Потому что все дни его <человека> – скорби, и его труды – беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это – суета!»
Книга Екклесиаста, 2, строфа 23
* * *
С самого раннего детства Энни Блейз чувствовала тягу к раскопкам. Ещё маленькой девочкой она тайком копалась в соседских садах, вынося из глубин земли на солнечный свет останки собак, кротов или птичек, мастерски точно определяя затем их давность. Причём уже очень скоро Энни Блейз приобрела в этом непростом деле такую великолепную сноровку, что могла выделить дату погребения с настоящей календарной точностью – год, месяц, день, даже приблизительное время суток и состояние погоды на тот момент, – чем не раз ставила в тупик изумлённых родственников и соседей, которым могла с невинным видом как бы вскользь высказать свои тайные познания.
Определённо, кроме простого желания копнуть поглубже, у Энни Блейз было редкое природное чутьё.
И, став взрослой женщиной, она его к собственному счастью не утратила, а лишь отточила. Натаскав саму себя сперва на скелеты домашних животных и на тайно захороненные трупы давностью никак не менее ста двадцати лет, со временем Энни Блейз взялась за более сложные задачи, и приносящие пользу науке, и неизменно дарующие охотничью радость непосредственно ей.
Ничего не было более заманчиво для Энни Блейз, чем рассматривать часами карту, нагнетать себя; потом интуитивно чувствовать вдруг – вот оно! – и с жадностью выхватывать взором одну-единственную точку на карте, уже зная, что в этом месте на натуре непременно будет что-то интересное. Затем – собирать людей, своих верных рабочих, помощников, археологов, копателей, журналистов, любопытных льстецов-дармоедов – словом, тех, кто был в экспедиции совершенно необходим. Снаряжаться; ссориться с отцом; против его решения в который раз уезжать; за три дня, за семь дней, за двенадцать дней добираться до очередного места; разбивать лагерь и, дойдя за ночь ожидания до предельного пика возбуждения и азарта, на рассвете начинать раскопки. В этой простой схеме и состоял смысл жизни молчаливой и деловитой Энни Блейз, любительницы хлопкового нижнего белья, платьев неброских расцветок, тёплых полосатых шарфов, толстых пыльных книг, давным-давно утративших актуальность, лысых кошек с презрительными глазами и непритязательных случайных любовников два-три раза в год.
Непосредственный результат раскопок чаще всего не приносил Энни Блейз особенной радости, как, впрочем, и принятие благодарностей, подарков и наград от коллегии ученых. Дело в том, что она была всегда наперёд уверена в благоприятном исходе своих экспедиций – указывая на место, где надо копать, Энни Блейз знала, что не ошибается с координатами и вскоре увидит очередную древность. А как может принести удовлетворение или стать приятной неожиданностью то, о чём известно заранее? Награды и речи же о её заслугах из уст ученых и журналистов из раза в раз становились всё более нудными и похожими друг на друга. Словом, после, всё казалось насквозь однообразным.
Так было всегда: ажиотаж от подготовки и начала раскопок, когда Энни Блейз могла внутренне почувствовать себя царицей мира, сменялся холодной флегматичностью и задумчивым безразличием, стоило останкам какого-нибудь древнего вождя или доисторического чудища выйти на поверхность из своей многовековой могилы.
Порой Энни Блейз задумывалась, верно ли она поступает, извлекая из недр земли то, что многие годы покоилось там, и не этим ли фактом осквернения обусловливается её отрицательная, пренебрежительная реакция на результаты раскопок? Но Энни Блейз не была подвержена мистицизму, не верила ни в проклятия, ни в души, ни в бумеранги судеб, и на вопросы своего редко сомневающегося сердца обычно отвечала, что ради того, чтобы испытать снова то ощущение жизненной силы, которое поселялось в ней с нового взгляда на карту с целью нахождения места, где придётся копать, она готова перепахать до основания всю планету целиком, гектар за гектаром.
Если бы Энни Блейз была сама с собой до конца честна, она бы смогла признаться себе, что это мифическое решение было своего рода проявлением слабости.
А это смотрелось именно слабостью.
Единственным страхом Энни Блейз – женщины, не боящейся ходить в одиночку по ночам в мире жестоких мужчин, не боящейся ни божьей кары, ни кары дьявольской, не боящейся боли и насильственной смерти, не боящейся потерять близких людей, ровно относившейся к виду крови или мёртвых тел, не страшащейся нападений диких животных, смело гуляющей с книгой и зонтиком по узкой тропинке над крутым обрывом, дерзко и неуважительно глядящей в глаза сильным мира сего, – было утратить чутьё, а вместе с ним и то живительное возбуждение, которое это самое чутьё позволяло чувствовать хотя бы несколько дней сборов. Энни Блейз боялась этой утраты до панического оцепенения: каково лишиться единственного важного, на чём зиждется жизнь, в целом мелочная и бессмысленная?
Вместе с потерей того почти наркотического опьянения Энни Блейз имела риск потерять саму Энни.
И никто на свете не знал об этом её страхе. Внешне спокойная и безучастная, как опытный хирург или патологоанатом, она ухитрялась держать это губительное чувство глубоко-глубоко внутри и оставляла его там упорно, как ту редкую вещь, один в этом мире объект для раскопок, который она не собиралась извлекать на поверхность и определять возраст.
Энни Блейз посвящала всю себя раскопкам, карьерам, ямам в земле, потным болтливым людям, измазанным в грязи, картам и пунктирам, древним скелетам и остаткам плоти на них, полуразложившимся тканям церемониальной одежды, которую давным-давно кто-то даже носил, керамическим горшкам, до сей поры хранящим запах ароматных масел, бессмысленным украшениям, влажным монетам, бесхозным клыкам и беззубым черепам, сломанным костям и истерзанным шкурам.
* * *
К тому моменту, как она перешагнула тридцать пятый год собственной жизни, Энни Блейз сумела растратить на экспедиции и разведывательные поездки большую часть состояния, которое было выделено семьей. Сей факт всерьёз беспокоил её отца, не раз задумывавшегося над, несомненно, беспутной судьбой единственной дочери, у которой, по его авторитетному мнению, явно было не всё в порядке с головой.
Ну, разве находящаяся в здравом уме женщина, которой должно кротко молиться по воскресеньям в церкви, послушно исполнять любую волю родителей, опускать глаза, встречая незнакомого человека на улице во время похода в магазин, посвятить юность вышиванию и мечтам о замужестве, а потом стать отличной женой, матерью и хозяйкой в своём прекрасном семейном доме, после чего встретить почтенную старость и рассказывать внукам сказки, станет так бредово тратить отпущенные ей годы?
Что за вздор: читать обтянутые кожей томики с непонятными терминами, беспрестанно откладывать вступление в брак, дерзить отцу, сбегать из дома в эти никому не нужные поездки ради того, чтобы копаться в зарытом в землю прошлом людей, имен которых нам не суждено узнать, и времен, которых уже не вернуть, а в итоге еще и периодически появляться на первых страницах газет, где с кислым лицом (что было совершенно уже излишним) будет пожимать руку очередному прославленному бородачу в очках! И подобной дочерью добрый старый отец, ничем не заслуживший в жизни такого зла, должен гордиться?!
Чёрта с два!
Разумеется, все вокруг должны были понимать, что сердился он на свою дочь совершенно заслуженно: он породил на этот свет Энни Блейз для абсолютно иных целей, господь свидетель.
И вот однажды, когда, проотсутствовав дома около шести недель, Энни Блейз явила свою фигуру в огромной хвалебной статье об удачных археологических исследованиях в свежем издании передовой газеты «Интересные мировые хроники», и кто-то из круга друзей семьи неосторожно поздравил её родителей с очередной победой, её отец, наконец, принял единственно верное решение. Оно заключалось в теперь уже твёрдом намерении выдать дочку замуж и научить уму-разуму. Если точнее, то решение это имело имя Мэттью Блейза, который насколько было известно отцу, давно претендовал на руку оной.
Мэттью Блейз обладал всеми неоспоримыми достоинствами для мужчины – он был ещё совсем не стар и, пусть не красив, зато обаятелен, верен, уважаем обществом, неколебим и твёрд в выборе блага, прекрасно образован и, что немаловажно, невообразимо богат. Как следствие, для Энни Блейз он являлся превосходной партией.
Едва только Энни Блейз переступила порог родного дома, завершив дела экспедиции и рассчитавшись с рабочими, отец моментально поставил её перед фактом, неоспоримым фактом её замужества, со всей деликатностью и безапелляционностью на которую был способен благодаря своему огромному жизненному опыту.
Энни Блейз, оу, она могла бы отказаться, могла бы упрямо стоять на своём, могла бы начать спорить и, как всегда боем, переубедить отца. Могла хотя бы попросить отсрочки, ведь на её стороне была железная воля, собственный капитал, слава, которую она делала себе годами, влиятельные друзья, могущие оказать поддержку и, в конце концов, закон о независимости каждой личности и свободе выбора, оставленной за любой человеческой единицей этого мира.
Но Энни Блейз отчего-то не стала сопротивляться.
Она почувствовала себя погашенной, невостребованной и пустой, не как живое существо, а, скорее, как шаблон этого существа. Пустотелый контур.
Нехорошее предчувствие неумолимого, какого-то дурного рока заворошилось в её сжавшемся сердце. Страх. Неизбежное, которое должно было свершиться с нею, губительное, странное – уже возобладало над её жизнью.
«Началось», с тоской подумала Энни Блейз, никогда особенно не отличавшаяся фатализмом, когда кратко согласилась с отцом относительно своей свадьбы.
Её отец был удивлён и счастлив – он ожидал от своей взбалмошной (сумасшедшей) дочери какой угодно реакции, но никак не добровольного согласия. Впрочем, страха за Энни Блейз в его душе не появилось, даже тени опасения не пробежало, а всё потому, что впервые в жизни она дала своему отцу повод, пусть и неоправданный, сомнительный повод гордиться ею.
Мэттью Блейз был тут же поставлен в известность о положительном ответе невесты, и воодушевлённо начал чётко скоординированную непродолжительную подготовку к грандиозному счастливому событию.
Через месяц всё было готово, и церемония, повергшая окружающих в шок своею пышностью, но почти не замеченная задумчивой и неразговорчивой невестой, которую все благоразумно назвали «мечтательной», свершилась. Собственно, именно таким образом Энни и стала Блейз.
В час, когда Энни Блейз надлежало покинуть родимый дом, чтобы отправиться жить в свой новый дом с мужем, её отец заперся в кабинете, где в одиночестве обливался слезами радости, гордости и облегчения. А мать до последнего расписывала радужные перспективы и причитала, и только в дверях, почти передав дочь в руки Мэттью Блейза и его сопровождающих, особо близких друзей, вдруг заметила:
– На тебе что-то лица нет, девочка. Ты нездорова? – но тут же словно испугалась собственных слов, которые могли, казалось, разрушить хрупкую атмосферу невнятного счастья вокруг; женщина закусила губу, замахала руками, предотвращая ответ Энни Блейз, и сделала зятю и гостям знак – «уходите уже, полно вам» – как могут мастерски делать, никого не обижая, только лишь самые натренированные радушные хозяйки.
Садясь в машину, очаровательно вежливо открывшую ей дверь, как бы приглашая на удобное сидение позади водителя мужа, Энни Блейз подумалось, что, должно быть, она с самого рождения и по сей день была плохой – ужасной – дочерью, что она вполне заслужила всё, что готовит в отместку ей жизнь, что не лишним было бы извиниться перед отцом и матерью. Это была последняя её мысль, прежде чем автомобиль шумно и задорно завёлся, увозя с собою женщину, покинувшую старый свой дом с чётким намерением больше никогда в него не вернуться.
* * *
В своём на редкость удачном и выгодном браке Энни Блейз зажила беззаботной и счастливой жизнью. И хотя Мэттью Блейз сразу же мягко, но настойчиво дал ей понять, что об её не совсем обычном для женщины хобби – археологии – ей придется забыть, но он с расторопным удовольствием предоставил ей множество других (и не менее дорогостоящих) прелестей, которыми мог компенсировать это её лишение. Энни Блейз к зависти многих могла ни в чем себе не отказывать и, в общем-то, так и делала, как ребенок из интереса пробует всласть из всей без исключения предложенной еды, не особо задумываясь, чему он отдает предпочтение. Энни Блейз тоже просто пробовала всё с вежливым, умеренным и неэмоциональным интересом, пытаясь таким образом выразить своё прохладное уважение великодушному мужу.
Она обставила весь дом по-новому, потом передумала, перекроила всё, снова обставила и вновь передумала – и так раз за разом, ни в одном варианте не нашлось завершенности.
Она открыла у себя вечерний светский салон, где каждую среду и субботу собирались её богатые коллеги – жены друзей Мэттью Блейза, такие же праздные бездельницы, но более общительные, чем она, такие же заложницы сложившегося миропорядка.
Она велела создать сад, в саду – скульптуры и пруд с мостиком, в пруду – рыб, но, так и не придумав, чем же заполнить самих рыб, Энни Блейз потеряла логическую цепочку последовательности и всякую заинтересованность к этой теме.
Она поощряла художников и поэтов; она оплачивала труд никому неизвестных архитекторов и учёбу бездарных медиков, посредством чего как-то раз даже поссорилась с мэром – совершенно не нарочно.
Она собрала огромную библиотеку ценных книг, но уже не прикоснулась ни к одной из них, а однажды среди ночи приказала все их сжечь, никому ничего не объясняя.
Она даже равнодушно, из последних силы пытаясь пробудить в себе любопытство и желание, завела себе любовника, втайне от мужа, никак эту связь не скрывая по сознательному решению: это получалось совершено автоматически, как-то само собой.
Статьи об её научно-археологических успехах перестали появляться в газетных хрониках, однако, нашли себе замену. Время от времени имя Энни Блейз фигурировало в статьях об очередном устроенном светском празднестве. При чём корреспонденты не переставали дивиться потрясающему богатству и неиссякаемому воображению Энни Блейз. То во время маскарада каждому гостю делался маленький подарочек, стоивший как целое небольшое государство, то ради фееричности шоу перед приглашенными плясали полуобнаженные юноши и девушки, одетые в костюмы из пластин чистого золота, во время танца которых звучала музыка известного живого оркестра, а то сама хозяйка въезжала в зал, где проводилась вечеринка, верхом на зебре, обряженной (безумно полосатым) пегасом.
Никто, бесспорно, не мог знать самого любопытного: делая всё вышеперечисленное, купаясь в деньгах, вседозволенности, совершая зрелищные, либо тайные чудачества Энни Блейз никогда не чувствовала себя к ним причастной.
Она делала только то, чего от неё ждали, по какой-то сумасбродной, безразличной ей самой схеме; она только потворствовала мужу, который считал по известным лишь таким, как он, соображениям, что так и должны вести себя счастливые жёны богачей. Сама же Энни Блейз, холёная и ленивая, но всё такая же молчаливая как и раньше, не чувствовала себя живой, не ощущала своё присутствие ни в одном из собственных поступков, годных для передовиц.
Строгое безразличие, привычно игнорируемое всеми, сквозило в Энни Блейз и во время руководства ремонтом, и в выборе гардероба, и в подписании денежных чеков, и в разговорах со знакомками, и в молитвах перед сном – заведённой традиции её мужа, – и в процессе устройства вечеринок, и в кратковременных встречах с пылким молодым любовником. В каждой секунде проведённого ею времени. И она настолько привыкла к этому состоянию, что даже не задавала себе вопроса: «почему это происходит со мной?» Это просто происходило, вот и всё.
* * *
После шести лет её брака Энни Блейз стал сниться один и тот же, раз за разом повторяющийся сон:
Вот она крадётся в сад каких-то соседей, ей от силы лет восемь, хотя она и не очень хорошо помнила себя в этом возрасте, и – в отличие от себя настоящей, от Энни Блейз теперь, та Энни знала, где надо копать. Сперва сны эти были мучительны, они навевали ей непонятную грусть, которой она не знала названия.
На самом деле, она грустила об упущенном, о выскользнувшем из дрожащей хватки, о настолько же далеко затерянном в прошлом, как и корона одного из древних правителей, вырытая Энни Блейз однажды.
Потом эти сны стали приносить ей другие ощущения, искажённые, также похожие на грусть, но болезненно приятные, горделивые. В глубине души она малодушно жаждала вечность за вечностью только и спать, и видеть этот сон.
Вся жизнь Энни Блейз разделилась на два полушария.
День, пустой и хлопотный, пронизанный динамичной скукой; она почти не могла уже запомнить, что с ней в его течении происходит. И ночь: мука, которая давала ей иллюзию былой свободы и того предательски неуловимого возбуждения, которого она ни разу в жизни не получила ни от полового акта, ни от вкусной пищи, ни от успешно завершённого дела.
…Энни тихонько обходит калитку маленькими ножками – главный вход ей не нужен, ей важно остаться незамеченной.
Внутри у неё всё горит, её так и подмывает плюнуть на всё и пуститься бежать к вожделенному месту в чужом саду, но трезвая и всегда холодная часть её рассудка держит эту лихорадку под железным контролем – осторожность превыше всего.
Энни находит тайный лаз в непреступной на вид каменной ограде, он прикрыт густой порослью бледно-розовой вейгелы и снежно-белой жимолости; но ей не впервой наведываться сюда, она уже знает дорогу. У неё есть цель, важная цель; в поле зрения девочки она словно бы горит всеми цветами радуги. На этот раз – вот здесь, под вечнозелёным, молодым ещё самшитовым кустиком.
Энни не жалко, она просто вырывает плохо сопротивляющийся двадцатидюймовый куст и начинает копать кислую, влажную, поддающуюся почву – вдумчиво, безошибочно, методично, целеустремленно.
Пальцы искарябаны, земля под ногтями, платье в грязи – но ни рук, ни одежды ей не жаль тоже: какой в этом смысл?
Энни работает, как машина, гребок за гребком, бесшумно, сжав зубы и улыбаясь. Азартное, всепоглощающее чувство нарастает в её сердце, распирает изнутри, готовое вот-вот разнестись по округе разрушительной взрывной волной – ещё немного, и Энни у цели.
Минута-другая, и она замедляет темп, начиная осторожничать – чуть-чуть, и под её пальцами окажется почти целиком разложившийся труп собаки, молодой самки дога, убитой пьяным хозяином в приступе злобного веселья. Эта собака не любила пьяных, она их презирала. Она была умная собака, выдержанная. Она только единожды успела принести щенят. Она была похоронена полтора года назад, седьмого февраля, в среду, ранним утром, когда было холодно, дул резкий и агрессивный морозный ветер, а изо рта хозяина и могильщика в одном лице, который закапывал своего мёртвого дога здесь спешно, тихо и тайно от жены и маленького сына, шёл молочно-белый, легко уловимый в воздухе парок.
Всё это Энни уже знала, и знала наверняка.
И пусть теперь этот мерзкий соседский мальчишка дразнит её и грозится своим папашей – теперь у неё есть оружие, бьющее без промаха: предложение спросить у драгоценного папочки, куда же делся дог Маффи, семейный любимец? Приболел? Живёт у родственника, у дяди Кларенса, который ветеринар? Да неужели? А обитает этот дядя случайно не под самшитом, на расстоянии какого-то метра вниз? Маленький вредный сосед замолкнет, он будет сбит с толку, подавлен и изумлён, но постарается напустить на себя наглый и самодовольный вид. Так и прикрываясь этой беззащитной маской, как щитом, он побежит домой раньше, чем собирался, якобы на обед, но на самом деле он найдёт отца и спросит о Маффи. И на этот раз не поверит отговоркам так легко – сомнения в его душе уже пустят корни. Это будет болезненный урок, зато Энни сможет быть уверена – нападок этого мальчишки больше не придётся опасаться.
Через четверть часа раскопки Энни подходят к концу: она нащупала свою добычу, аккуратно освободила от земли со всех сторон, теперь труп собаки может быть осторожно извлечён…
Что-то пошло не так. Энни смотрит, моргая, она чувствует обман и разочарование. Впервые в жизни она ошиблась? Она откопала не то, что ждала: это не Маффи.
Энни касается своей добычи – это кости, завёрнутые в шкуру печёночного цвета. Костей много. Их хватит, чтобы кого-нибудь из них собрать. Энни и раньше доводилось собирать скелеты птиц, кошек, грызунов, не человека, но она по книгам знает анатомические соединения на зубок.
Но сейчас не время, сейчас ей почему-то не хочется, она только вновь заворачивает находку в шкуру и, сложив в яму, торопливо забрасывает её землей…
Просыпаясь утром, Энни Блейз трудилась вспомнить – а тогда, в детстве, откопала ли она Маффи? или тоже ошиблась, и это был трупик дрозда, воробья, галки, совершенно случайно погребённой под кустом? или тогда соседи застукали девочку на середине работы и с позором изгнали из сада? Это оставалось для Энни Блейз загадкой.
Стоит заметить, по прошествии месяцев, сны не всегда оставались одинаковы детально.
Иногда ей удавалось собрать из костей настоящий скелет; только её удручал один назойливый факт – выемка в том месте, где шейный позвонок должен был соединяться с черепом, была однозначно неверная: чтобы всё сошлось, чтобы её приладить, нужно было расположить череп задом наперёд, а это был странный вид – лицевая часть, глядящая назад, а впереди, словно косясь на косточки рёбер, чуть опущенный вниз затылок. «Мог ли этот человек, обладатель скелета, жить вот так – дико, со свёрнутой шеей?» часто проносился вопрос в уме Энни Блейз, только она никогда не озвучивала его вслух, словно не желая делиться тайной.
А иногда во сне кости в шкуре говорили с ней. Они рассказывали ей странные, бредовые сказки. Небылицы о женщинах, которые хотят жить, которые любят себя, которые получают удовольствие от работы, читают книги, ищут в облаках силуэты замков, лежа на траве прохладным вечерком. Энни внимательно слушала россказни скелета и шкуры, хмыкая, недоверчиво качая головой, местами восклицая удивленно – «Какая ересь!» – а то и вовсе хихикая, беззастенчиво и открыто как ребёнок.
Чем больше историй Энни Блейз выслушивала от своей неожиданной подземной находки, которая оказалась совсем неплохим рассказчиком с богатой образностью и неиссякаемостью сюжетов, тем меньше верила в это, но всё острее ощущала в себе потребность записать.
С самого утра Энни Блейз строчила, как безумная, игнорируя часы приёма пищи, не узнавала мужа, слуг и знакомых в своей концентрации на деле. Но, не успев дописать даже самой крохи начала, она рассеяно теряла листы, силилась вспомнить, куда могла спрятать их и от кого их прятала, но не выходило; всё больше ненужные мысли заполоняли её голову, мешая думать о необходимом. И каждый раз, каждое утро ей приходилось начинать заново.
Она не замечала, что муж, сперва слегка обеспокоенный её состоянием, теперь всерьёз запаниковал, водил к ней врачей и колдунов, придумывал скучные развлечения и без толку пытался чем-то её заинтересовать.
Наконец, Мэттью Блейз был вынужден опустить руки и сделать то, чего не желал бы делать ни при каких обстоятельствах – позволить жене участвовать в раскопках.
Энни Блейз отнеслась к предложению вяло, она не успела даже понять, кто и о чём с ней говорит, но по инерции, по выработанной годами привычке согласилась. Испытывавшая сонливость, она была торжественно подведена мужем к огромному разноцветному листу с запылёнными краями, вывешенному на стену. Только спустя минуту после череды сходных образов её осенило, будто бы мозг вдруг полыхнул, политый бензином: это карта! Археологическая карта, её археологическая карта, страшное знамение, её портрет в похоронном венке.
Мэттью Блейз немало обрадовался, увидев в глазах жены чуть вспыхнувший огонёк живого рассудка, но не мог понять, почему он был оплотом страха и разочарования, почему это его великодушное разрешение ей вернуться к прежнему «неженскому» хобби не воспринимается ею с активной радостью. Но, хотя Энни Блейз, наконец-то, узнала и карту, и мужа, и обстановку, она сделала это внешне апатично, чему служило две причины.
Во-первых, ей не хотелось ехать на раскопки; странно сильное сопротивление этому забурлило в ней, как вулканическая лава перед извержением. Отсутствие чего-то важного, забытого, задавленного, обиженного, что обычно овладевало ею перед отъездом на очередное заветное место, смутно беспокоило её, удивительно скоро подтачивало силы.
Во-вторых, вся сложившаяся ситуация – да даже сама вот эта карта перед нею – вселяла в Энни Блейз сплошной и мрачный бесконтрольный ужас. Она утратила всё, всё, что в ней было, она стёрлась; стержень, державший её тело в вертикальном положении, сломался, и она, болтающаяся без основы, безвольная, уплывала теперь; даже страдания не могли вернуть ей жизнь. Смысл умер, жизнь умерла – Энни Блейз, сама Энни не знала, куда ехать, за что браться, куда нужно направить лопаты рабочих. Энни умерла.
Сердобольный супруг счел её молчание за согласие и опрометчиво сказал, надеясь доставить ещё большее удовольствие, что он даже наметил специально для неё и её экспедиции примерный маршрут. Энни Блейз в ответ затравленно улыбнулась. Муж очень любил её, он только и мечтал, как бы облегчить ей жизнь, не понимая, что то, что проходит все препятствия легко, преодолевает свой намеченный отрезок пути быстрее, гораздо быстрее, слишком быстро.
Сидя в машине, которая шла во главе целой вереницы таких же, в дороге, намеченной Мэттью Блейзом, до предполагаемых им же древностей, Энни Блейз была, несмотря на внешнее меланхоличное спокойствие и роскошное одеяние, изношенной, безграмотной, голой, избитой, седой и больной – не физически.
Ирония состояла в том, что Энни Блейз снова ехала на раскопки, но, на этот раз, не имея никакой цели. Странно и грозно.
* * *
Это произошло на четвертый день от официального начала экспедиции.
* * *
Энни Блейз стояла на наскоро сколоченном строителями деревянном мостике вместе с мужем, под ними были вырыты целые глубокие карьеры, где копошились маленькие фигурки рабочих с лопатами, кирками, мётлами и прочими инструментами – явно не нужными.
Энни Блейз не столько раздражалась, сколько дивилась на саму себя и на то, как же она – она! – умудрилась оказаться здесь, сейчас и вот так, в положении зависимом, смешном, усталом.
В её голове с плавностью, лишённой всякой элегантности, кружились невесёлые, прерывистые мысли:
«За кого он держит меня – за комнатного пёсика, за цветок, который достаточно только пересаживать время от времени, чтобы не чах, или за обыкновенную дуру?.. А кто же я… Купили, продали, перекупили… Привёз меня сюда, милый, снисходительный Мэттью, палач и апостол… Он хочет мне добра?.. Он хочет быть вдовцом?.. Он хочет моей благодарности или просто освободиться, как те, в старом доме?.. Считает, что приносит мне радость, не так ли?.. Предложил лучшую цену и перекупил, так что же, владеет теперь?.. Управляет. Намечает маршрут. Но, кто-нибудь! Хоть кто-то с чутьём: здесь ведь нет ничего… гектары пустой земли… Пустая земля, ничего в себе не кроющая… Эта земля, как и я… На много миль вокруг – ничего… Всё здесь – могилы Энни… Ничего, ничего, ничего, ничего… но мы копаем, мы вгрызаемся в землю, мы мучаем её ни за что!.. За что мы мучаем меня, её?.. И ведь откапываем… Бессмыслица, чепуха!.. Он думает, я не знаю. Его люди закапывают ночью старые трупы, уже отрытые кем-то, чтобы я нашла их днём… Страшные, страшные дни, театр… Он считает, я не слышу, как они работают ночи напролёт… Земля после них совсем свежая, рыхлая, всякий догадался бы, что её намедни перерывали… Мои раскопки – фарс, фермерское поле!.. Огород: Мэттью садит, я послушно пожинаю плоды… За кого он держит меня?.. За кого эта земля…»
Отдалённые, путаные размышления перемежались с отрывочными воспоминаниями о детстве, о снах, что продолжали посещать её ночью. Энни Блейз смотрела вниз с мостика, муж рядом заботливо чуть касался её тощего острого локтя, но картинка карьера, взрываемого дважды в сутки с одной и той же обманной целью, перекликалась, наслаивалась на другую: тоже взрытую землю, тоже безбожную яму, тоже с находкой, что обманула ожидания юной девочки-землеройки, молчаливой и деловитой.
Скелет с черепом наоборот, кости в шкуре, скелеты и шкуры с запахом гнили и тления, с тлеющими мечтами, над которыми уже залетали мухи, привлечённые атмосферой разложения…
– Да-да, скелеты и шкуры, – пробормотала Энни Блейз, мягко высвободившись из объятий мужа. Подошла к самому краю мостика с невидящим взором, схватилась за грубо вытесанные перильца, что пальцы побелели на проступивших выпуклостях костяшек, перегнулась туда, к бездне, где не только гулял ветер, но и, едва различимые ею, разбредались в конце рабочего дня люди. И, обернувшись к Мэттью Блейзу с неожиданной улыбкой, Энни спросила громко:
– А что, дорогой мой, может ли человек жить со свернутой шеей?
<30 сентября 2008>