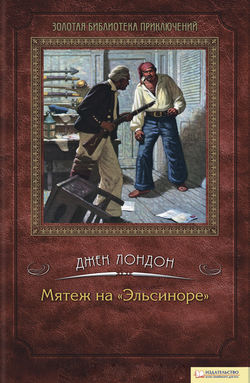Читать книгу Мятеж на «Эльсиноре» - Джек Лондон - Страница 10
Мятеж на «Эльсиноре»
Глава VIII
ОглавлениеЗакурив папироску, я вышел на палубу и направился туда, где происходили работы. Над моей головой при свете звездного неба виднелись темные очертания парусов. Мы плыли, плыли очень медленно – насколько я мог судить, будучи совершенным новичком в этом деле. Смутные силуэты людей в длинных одеждах тянули канаты. Тянули в болезненном и угрюмом молчании в то время, как вездесущий мистер Пайк на каждом углу брюзжал из-за отсутствия должного порядка и извергал кучи проклятий на головы несчастных людей. Несомненно, судя по тому, что я читал, ни одно судно в прежние времена не отправлялось в плавание с такой невеселой и тупой командой.
Между тем к мистеру Пайку для руководства работами присоединился мистер Меллер. Еще не было восьми часов вечера, и все были за работой. Матросы, казалось, совершенно не умели обращаться с канатами. Раздававшиеся время от времени полусердитые наставления боцманов не всегда давали результат, и я видел, как то один, то другой помощник капитана подбегал к матросам, к нагелю и сам вкладывал в их руки нужные канаты.
«Эти люди на палубе безнадежны», – решил я. Судя по долетавшим звукам наверху, на уборке парусов были несколько иные люди, несомненно, более приспособленные, более похожие на моряков.
Но на палубе! Тридцать или сорок несчастных тянули канат, который поднимал рею, – тянули без дружных, согласованных усилий, их движения были болезненно медлительными. Они проходили с канатами едва ли два-три ярда, а затем останавливались, как усталые кони на подъеме. Однако, едва лишь какой-нибудь из помощников капитана подбегал к ним и добавлял свою силу, матросы уже безо всякого усилия, почти без остановок дальше продвигали канат по палубе. И несмотря на то что оба помощника были люди старые, каждый из них обладал силой, по меньшей мере равной силе полудюжины этих жалких созданий.
– Вот во что выродилось плавание! – Мистер Пайк остановился для того, чтобы фыркнуть мне это в ухо. – Разве же это место для офицера – стоять здесь, внизу, и вместе с ними тянуть и волочить? Но что поделаешь, когда боцманы еще хуже матросов?
– А я думал, что матросы поют, когда тащат канат, – сказал я.
– Да так оно и есть! Хотите их послушать?
Я почуял в его голосе оттенок злорадства, но все же ответил, что очень хотел бы послушать.
– Эй, боцманы! – рявкнул мистер Пайк. – Проснитесь! Затяните песню. Марса-реи!
Во время наступившей паузы – могу поклясться – Сёндри Байерс прижал руки к животу, а Нанси с мертвенно-бледным, заледеневшим лицом затянул песню, – несомненно, это был он, потому что никакой другой человек не мог бы затянуть такую жалобную, похоронную песню… Она была немузыкальна, некрасива, безжизненна и неописуемо заунывна. Однако, судя по словам, эта песня звучала отвагой и веселостью. Вот что пел несчастный Нанси:
Прочь, уходи, забирайся вверх, рея,
Падди Дойля убьем мы за его сапоги…
– Бросьте! Бросьте! – завопил мистер Пайк. – Здесь же не похороны! Нет ли тут кого-либо среди вас, кто умел бы петь? Ну, затягивай! Марса-реи!
Он прервался на полуслове, чтобы подскочить к нагелю и вырвать из рук людей ненужные канаты и вложить нужные.
– Боцманы, начинайте другую песню! Ну, затяните!
Тогда из темноты послышался голос Сёндри Байерса, разбитый, слабый и даже еще более заунывный, чем голос Нанси:
А затем эта рея должна взвиться вверх,
Чтобы виски был для Джонни…
Предполагалось, что вторую строчку подхватит хор, но слабо подтянули не больше двух человек. Сёндри Байерс тем же дрожащим голосом пропел дальше:
О, виски убил мою сестру Сью.
Тогда в хоре решил принять участие и мистер Пайк. Он схватил волочащийся у нагеля канат и с исключительным ухарством и силой затянул:
И старика убил виски
Виски для моего Джонни…
Он бесконечно повторял эти залихватские строки, воодушевляя на работу всю команду и заставляя ее хором повторять припев:
Виски для моего Джонни…
И под его голос матросы волочили, двигались и проявляли жизнь до тех пор, пока он не прервал песню командой:
– Крепить снасти!
И тогда из этих людей снова ушла вся сила, исчезло проворство, и снова превратились они в ворчащих и жалких людишек, натыкающихся друг на друга, спотыкающихся и волочащих ноги в темноте, нерешительно хватающих канаты, и неизменно не те, какие нужно. Несомненно, между ними были и откровенные лентяи. Со стороны средней рубки послышались звуки ударов, ругательства и стоны, а затем из темноты прошмыгнули две фигуры, а за ними следом понесся мистер Пайк, грозивший им теми ужасными последствиями, которые их ожидают, если он еще раз поймает их за такими штуками.
Все это действовало на меня слишком угнетающе, так что я не мог долго оставаться здесь для наблюдений. Поэтому я пошел назад и забрался на ют. На подветренной стороне штурманской рубки расхаживали взад и вперед капитан Уэст и лоцман. Пройдя назад, я заметил штурмана – худого, маленького старичка, на которого еще раньше, днем, я обратил внимание. При свете фонаря его голубые глазки выглядели еще более ехидно. Он был такой худой и крошечный, а штурвал – такой большой, что они казались одной вышины. У него было изнуренное, опаленное солнцем лицо, все в морщинах, и по внешнему виду он казался лет на пятьдесят старше мистера Пайка. Это была самая редкостная фигура старого, изношенного человека, которую когда-либо можно было встретить в роли рулевого на одном из лучших парусных судов. Позже, через Ваду, я узнал, что его зовут Энди Фэй, и что, по его словам, ему не больше шестидесяти трех лет.
Я прислонился к борту на подветренной стороне, около штурманской будки, и стал пристально вглядываться в высокие мачты и мириады веревок, которые я угадывал в вышине. Нет, решил я, пока путешествие меня мало прельщает. Здесь все вокруг идет не так, как следует. Было холодно, когда я ждал парохода на пристани. Была мисс Уэст, которая, как оказалось, ехала с нами. Была команда из калек и сумасшедших. Мне интересно было бы знать, все ли еще бормочет раненый грек в средней рубке, и зашил ли его мистер Пайк? Я был твердо уверен, что сам нисколько не соблазнился бы оказаться пациентом такого хирурга.
Даже у Вады, который никогда не плавал на парусном судне, имеются свои опасения насчет этого путешествия. Не лишен их и буфетчик, большую часть жизни проведший на парусных судах. Что же касается капитана Уэста, то для него команда не существует. А вот мисс Уэст, ну, та слишком крепка и здорова, потому не может не быть оптимисткой в таких делах. Она до краев переполнена жизнью. Ее красная кровь говорит ей только о том, что так она будет жить всегда и что ничего худого не может приключиться с ее замечательной особой.
О, верьте мне: я знаю, на что способна красная кровь. И уж каким было мое настроение, если уж само по себе полнокровие, здоровье мисс Уэст было для меня обидой, ибо я знал, какой безрассудной и несдержанной может быть красная кровь. По меньшей мере пять месяцев (мистер Пайк предлагал пари на фунт табаку или на все свое месячное жалованье, это надо иметь в виду) – пять месяцев я обречен провести на одном судне с ней. Это так же верно, как то, что мировой закон есть мировой закон, так же верно, что, прежде чем закончится наше путешествие, она начнет преследовать меня своей любовью.
Пожалуйста, не пытайтесь переубедить меня! И поймите меня правильно. Моя уверенность в этом проистекает не из какого-то преувеличенного мнения о самом себе или особого тяготения к женщине, а исключительно из-за моего представления о женщине как об инстинктивной охотнице на мужчин. Мой опыт подсказывал мне, что женщина охотится на мужчину с такой же слепой стихийностью, с какой тянется к солнцу подсолнечник, с какой отростки виноградных лоз ищут открытого залитого солнцем пространства.
Назовите меня «blasé»[8] – мне все равно! – если под этим словом вы понимаете утомление жизнью – утомление интеллектуальное, художественное и чувственное, которое может выпасть на долю даже молодого, тридцатилетнего человека. Да, мне только тридцать лет, и я устал от всего этого, устал и мучаюсь в сомнениях. Из-за такого состояния я и предпринял это путешествие. Я хотел совершенно уединиться, уйти от всех переживаний и наедине с самим собой одолеть свой недуг.
Мне иногда казалось, что наибольшей степени эта «болезнь светом», это пресыщение жизнью достигли тогда, когда вызвала успех моя первая пьеса. Но этот успех был такого рода, что он поднял рой сомнений в моей душе, – так же, как в свое время вызвал сомнение успех нескольких томиков моих стихов. Права ли публика? Правы ли критики? Конечно, признание художника только в том и заключается, чтобы превозносить жизнь, но что я знаю о жизни?
Итак, вы начинаете теперь понимать, что я разумею под выражением «болезнь светом»? Этим я страдаю. Несомненно, я в самом деле очень страдал. Меня преследовали безумные мысли о полном уединении. Я даже подумывал о поездке в Молокаи с целью посвятить остаток своих дней уходу за прокаженными. И я думал об этом, я – тридцатилетний человек, здоровый, сильный, не переживший никакой особенной трагедии, – человек, который не знал, куда девать свой огромный доход, имя которого, благодаря его произведениям, было почти у всех на устах и который пользовался всеобщим вниманием! И я был тем самым сумасшедшим человеком, который работу в доме для прокаженных готов был считать своим уделом.
Мне могут сказать, что, очевидно, успех-то и вскружил мне голову. Очень хорошо! Согласен! Но вскруженная голова остается фактом, неоспоримым фактом – и это подтверждается моей болезнью, и болезнью настоящей. Вот что я твердо знал: я достиг своего полного интеллектуального и артистического развития, своего рода житейской границы! И вдруг – эта ужасно здоровая, глубоко женственная мисс Уэст на корабле! Это последняя составная часть, которую я мог надумать внести в свой рецепт прописанного себе лекарства.
Женщина! Женщина! Одному Господу Богу известно, что меня достаточно измучили их преследования, чтобы их знать! Предоставляю вам судить об этом: возраст – тридцать лет, не совсем безобразный, интеллигентный человек, художник, видное положение в свете и доход почти блестящий – почему женщинам и не преследовать меня? Да они стали бы меня преследовать даже в том случае, если бы я был горбуном – из-за одного моего положения! Из-за одного моего состояния!
Да, и любовь! Разве же я не знал любви? Все это тоже в свое время досталось мне на долю. Я тоже трепетал, и пел, и рыдал, и вздыхал. Да, и знал горе, и хоронил своих мертвых. Но это было так давно! Как я был тогда молод! Мне едва минуло двадцать четыре года. А после всего этого я получил горький урок, что умереть может даже бессмертное горе. И я снова смеялся и снова принимался ухаживать за красивыми жестокими ночными бабочками, которые порхали на свету моего богатства и артистической славы. А после того пришло время – и я отошел от женских приманок, полный отвращения к охоте женщин, и начал ряд длинных приключений в царстве мысли. И в конце концов я – на борту «Эльсиноры», выбитый из седла моими столкновениями с высокими проблемами, унесенный с поля битвы с проломленной головой.
Опять стоя у борта, всячески стараясь отогнать тяжелые предчувствия насчет плавания, я не мог не думать о мисс Уэст, которая находилась внизу, суетилась и жужжала, свивая свое маленькое гнездышко. И от нее мысли мои устремились к извечной тайне женщины. Да, я со всем своим заранее сформированным презрением к женщине всегда и неизменно поддаюсь тайнам ее чар.
О, никаких иллюзий – благодарю вас! Женщина, искательница любви, осаждающая и обладающая, хрупкая и свирепая, мягкая и ядовитая, более гордая, чем Люцифер, но такая же смиренная, обладает вечной, почти болезненной притягательной силой для мыслителя. Что за огонь сверкает сквозь все ее противоречия и низменные инстинкты? Что за жестокая страсть к жизни, всегда к жизни, к жизни на нашей планете? Временами это кажется мне бесстыдным, страшным и бездушным. Временами это возмущает меня своей наглостью. А иногда я проникаюсь величием этой тайны. Нет, от женщины нельзя убежать! Всегда и неизменно, точно так же, как дикарь возвращается в темную долину, где обитают лешие и, может быть, боги, – так и я всегда возвращаюсь к созерцанию женщины.
Голос мистера Пайка прервал мои размышления. С передней части главной палубы я услышал его рычание:
– Эй, вы там!.. На главную рею! Если разрежешь этот ревант, я проломлю тебе твой проклятый череп!
Он снова закричал, но в голосе его послышалась заметная перемена: Генри, к которому он сейчас обратился, был юнгой учебного судна, так, по крайней мере, я заключил.
– Генри, на верхнюю рею! Не развязывай ревантов. Уложи их вдоль реи и крепи к драйрепу!
Выведенный таким образом из состояния задумчивости, я решил спуститься вниз и лечь спать. Когда моя рука коснулась ручки двери рубки, мне вслед прогремел голос помощника капитана:
– А ну-ка, пожалуйте сюда, буржуи наизнанку! Проснитесь! Поживее!
8
Blasé – пресыщенный, равнодушный (фр.).