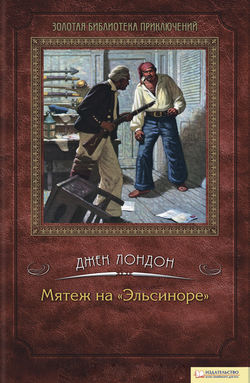Читать книгу Мятеж на «Эльсиноре» - Джек Лондон - Страница 12
Мятеж на «Эльсиноре»
Глава X
ОглавлениеВ тот вечер мы, мужчины, обедали только втроем, с перегородками на столе, а «Эльсинору» швырял тот шторм, который запер мисс Уэст в ее каюте.
– Вы не увидите ее несколько дней, – сказал мне капитан Уэст. – С ее матерью было так же: прирожденный моряк, но ее всегда укачивало в начале каждого плавания.
– Это обычное приноравливание к перемене обстановки, – мистер Пайк удивил меня самой длинной фразой, которую я когда-либо слышал от него за столом. – Каждому из нас приходится приноравливаться, когда мы покидаем берег. Нам приходится забывать о спокойном времени на берегу и хороших вещах, которые можно приобретать за деньги, и нести вахту за вахтой четыре часа на палубе и четыре – внизу. И нам приходится туго, и наши нервы напряжены, пока мы не привыкнем к перемене. Приходилось ли вам слышать Карузо и Бланш Арраль этой зимой в Нью-Йорке, мистер Патгёрст?
Я кивнул, все еще удивляясь этому многословию за столом.
– Ну вот, подумать только, что я слушал их: и Карузо, и Уизерспуна, и Амато каждый вечер в столице, а потом простился со всем этим, чтобы выйти в море и приноравливаться к бесконечным вахтам.
– Вы не любите моря? – спросил я. Он вздохнул.
– Право, не знаю. Но ведь море – это все, что я знаю…
– Кроме музыки, – вставил я.
– Да, но море и долгое плавание отняли у меня большую часть музыки, какой я хотел бы насладиться.
– Я думаю, что вы слышали Гейнк Шуман?
– Изумительно! Изумительно! – прошептал он с благоговением, потом вопросительно взглянул на меня. – У меня есть с полдюжины ее пластинок, и я несу вторую подвахту внизу. Если капитан Уэст ничего не имеет против (капитан Уэст кивнул головой в знак того, что он против ничего не имеет), и если вы хотите прослушать их… Инструмент недурной, довольно хороший граммофон.
Затем, к моему удивлению, когда буфетчик убрал со стола, этот обросший мхом пережиток того времени, когда людей колотили и убивали, этот потрепанный морем обломок вынес из своей каюты великолепнейшую коллекцию пластинок, которую он поставил на стол вместе с граммофоном. Широкую дверь раздвинули, образовав таким образом из столовой и главной каюты одно большое помещение. Мы с капитаном Уэстом уселись в глубоких кожаных креслах в главной каюте, пока мистер Пайк устанавливал граммофон. Его лицо было ярко освещено висячими лампами, и ни один оттенок выражения на этом лице не ускользал от меня.
Напрасно я ожидал услышать какой-либо популярный мотив. Музыка была исключительно серьезной, и его бережное обращение с пластинками было само по себе откровением для меня. Он с благоговением брал каждую из них в руки, словно какой-то священный предмет, развязывал, разворачивал и обчищал мягкой щеточкой из верблюжьей шерсти, прежде чем пустить по ней иголку. Сначала я ничего не видел, кроме огромных грубых рук грубого человека с ободранными суставами пальцев, которые каждым своим движением выражали любовь. Каждое прикосновение их к пластинкам было лаской, и, пока они звучали, он стоял над ними, воспаривший в какой-то рай небесной музыки, известной ему одному.
В это время капитан Уэст курил сигару, откинувшись на спинку кресла. Лицо его ничего не выражало; он, казалось, был очень далеко, и музыка его не трогала. Я начинал сомневаться в том, что он ее слышат. Он не делал в промежутках между пьесами никаких замечаний, не выражал ни одобрения, ни недовольства. Он казался чрезвычайно спокойным, чрезвычайно далеким. И, глядя на него, я спрашивал себя, в чем заключаются его обязанности. Я ни разу не видел его что-либо делавшим. За нагрузкой судна наблюдал мистер Пайк. Капитан Уэст появился на судне только тогда, когда оно было совершенно готово к выходу в море. Я не слышал, чтобы он отдавал какие-либо приказания. Мне казалось, что вся работа лежит на мистере Пайке и мистере Меллере. Капитан Уэст только курил сигары и пребывал в блаженном незнании того, что делается на «Эльсиноре».
Когда граммофон сыграл «Аллилуйя» из оратории «Мессия» и псалом «Он накормит стадо свое», мистер Пайк заметил извиняющимся тоном, что любит духовную музыку, быть может, потому что когда-то в детстве недолгое время пел в церковном хоре в Сан-Франциско.
– А потом я хватил священника по голове смычком от контрабаса и снова улизнул в море, – заключил он с жестокой усмешкой.
И вслед за тем он снова замечтался над «Царем небесным» Мейербера и «О, покойся во господе» Мендельсона.
Когда пробило три четверти восьмого, он аккуратно уложил все свои пластинки и отнес их и граммофон к себе в каюту. Я посидел с ним, пока он свернул папироску и пока не пробило восемь часов.
– У меня еще много хороших вещей, – сказал он конфиденциальным тоном. – «Приидите ко мне» Кенена, «Распятие» Фора, «Поклонимся Господу» и «Веди нас, свете тихий» для хора, а «Иисус, возлюбленный души моей» прямо-таки схватил бы вас за сердце. Как-нибудь вечерком я вам сыграю все это.
– Вы верующий? – спросил я под впечатлением его восторженного вида и его грубых рук, которые преследовали меня.
Он заметно колебался, прежде чем ответил:
– Верю… когда слушаю это…
В эту ночь я спал из рук вон плохо. Не доспав накануне, я рано закрыл книгу и погасил лампу. Но не успел я задремать, как был разбужен своей крапивницей. Весь день она меня не беспокоила, но как только я потушил свет и заснул, возобновился проклятый непрерывный зуд. Вада еще не лег спать, и я взял у него порцию кремортартара. Но это не помогло, и в полночь, услышав смену вахты, я кое-как оделся, набросил халат и поднялся на корму.
Я увидел, как мистер Меллер, заступив на свою четырехчасовою вахту, ходил взад и вперед по левой стороне кормы, и я проскользнул дальше, мимо рулевого, которого не узнал, и спрятался от ветра за выступом рулевой будки.
Я снова рассматривал неясные очертания и переплетения сложных снастей и высокие парусные мачты, думал о безумной, невежественной команде, и в меня закрадывалось предчувствие беды. Как было возможно такое плавание, с подобной командой, на громадной «Эльсиноре», грузовом судне, представлявшем собою лишь стальную скорлупу в полдюйма толщиной, нагруженную пятью тысячами тонн угля? Об этом страшно было думать. Плавание не задалось с самого начала. В мучительном неуравновешенном состоянии, вызываемом у каждого человека лишением сна, я не мог не решить, что плавание обречено на несчастье. Но насколько это соответствовало действительности, ни я, ни самый безумный человек не мог себе вообразить.
Я вспомнил мисс Уэст с ее горячей кровью, которая всегда жила полной жизнью и не сомневалась в том, что будет жить всегда. Я вспомнил избивавшего и убивавшего людей и обожавшего музыку мистера Пайка. Что касается капитана Уэста, то он не шел в счет. Он был существом слишком нейтральным, слишком «отсутствующим», чем-то вроде особо привилегированного пассажира, которому нечего делать, кроме того как спокойно и пассивно существовать в некой нирване собственного изобретения.
Затем я вспомнил грека, ранившего себя, зашитого мистером Пайком и лежащего теперь со своим бессвязным бормотанием между стальными стенками средней рубки. Эта картина едва не заставила меня принять решение, так как в моем лихорадочном воображении этот грек олицетворял всю безумную, идиотическую, беспомощную команду. Конечно, я еще мог вернуться в Балтимору – слава Богу, у меня было довольно денег, чтобы я мог исполнять свои капризы. Мистер Пайк как-то сказал, в ответ на мой вопрос, что ежедневный пробег «Эльсиноры» обходится в двести долларов в день. Я мог позволить себе заплатить не только двести, но и две тысячи долларов в день за те несколько дней, которые понадобились бы, чтобы доставить меня обратно в Балтимору либо довезти до какого-либо лоцманского буксира или же до направляющегося в Балтимору судна.
Я был уже готов сойти вниз и сообщить капитану Уэсту о своем решении, когда мне пришла в голову другая мысль: «Так ты, мыслитель и философ, утомленный светом, боишься утонуть и перестать существовать во мраке»? И вот только потому, что я гордился смиренностью своей жизни, сон капитана Уэста не был нарушен. Разумеется, я не уйду от приключения, если можно назвать приключением путешествие вокруг мыса Горн на судне, наполненном безумцами и идиотами и даже хуже. Ведь я помнил трех вавилонян и семитов, которые вызвали ярость мистера Пайка и смеялись так безмолвно и ужасно.
Ночные мысли! Мысли бессонницы! Я отогнал их и направился вниз, насквозь пронизанный холодом. У дверей капитанской рубки я встретился с мистером Меллером.
– Добрый вечер, сэр, – приветствовал он меня. – Жаль, что нет небольшого ветра, который помог бы нам выбраться подальше в море.
– Что вы думаете о команде? – спросил я через минуту-другую.
Мистер Меллер пожал плечами.
– Я видел на своем веку не одну странную команду, мистер Патгёрст. Но такой дикой, как эта, никогда не видел – мальчишки, старики, калеки… Вы видели, как сумасшедший грек Тони бросился вчера за борт? Ну вот, это еще только начало. Он образчик многих таких же! В моей вахте есть верзила-ирландец, с которым что-то неладно. А заметили вы маленького сухонького ирландца?
– Который всегда выглядит злым и который стоял третьего дня на руле?
– Этот самый – Энди Фэй. Ну, так вот, Энди Фэй только что жаловался мне на О’Сюлливана. Говорит, что О’Сюлливан грозил убить его. Когда Энди Фэй сменился в восемь часов с вахты, он застал О’Сюлливана за тем, что тот точил бритву. Я повторяю вам весь их разговор в точности, как мне его передал Энди:
– О’Сюлливан говорит мне: «Мистер Фэй, я хотел бы сказать вам пару слов. – Пожалуйста, говорю я, что вам надо? – Продайте мне ваши непромокаемые сапоги, мистер Фэй, – говорит О’Сюлливан как нельзя более вежливо. – Ну на что они вам? – спрашиваю я. – Этим вы сделаете мне большое одолжение, – отвечает О’Сюлливан. – Но это моя единственная пара, – объясняю я, – а у вас ведь есть свои. – Мистер Фэй, мои мне нужны будут только для плохой погоды, – говорит О’Сюлливан. – Впрочем, – добавляю я, – ведь у вас нет денег. – Я заплачу за них, когда мы получим расчет в Ситтле, – говорит О’Сюлливан. – Нет, я не согласен, – отказываюсь я, – кроме того, вы не сказали мне, что вы с ними сделаете. – Но я вам скажу, – отвечает О’Сюлливан, – я хочу выбросить их за борт. – После этого я повернулся, чтобы уйти, но О’Сюлливан очень вежливо, словно желая уговорить меня, продолжает, все еще оттачивая свою бритву: – Мистер Фэй, – говорит он, – не подойдете ли вы сюда, чтобы я перерезал вам горло? – Тогда я понял, что моя жизнь в опасности, и пришел доложить вам, сэр, что этот человек – буйнопомешанный».
– Или скоро им будет, – заметил я. – Я обратил на него внимание вчера – высокий малый, который все время что-то бормочет про себя.
– Да, это он, – подтвердил мистер Меллер.
– И много у вас на судне таких? – спросил я.
– Право, думаю, больше, чем я хотел бы, сэр.
В это время он закурил папиросу и вдруг быстрым движением сдернул с себя фуражку, наклонил голову вперед и поднял над ней горящую спичку, чтобы мне посветить.
Я увидел седеющую голову, макушка которой, не совсем лысая, была местами покрыта редкими, длинными волосами. И поперек всей этой макушки, исчезая в более густой бахромке над ушами, проходил самый огромный шрам, который мне когда-либо случалось видеть. Поскольку я видел его лишь мгновение – спичка быстро потухла – и так как рубец был невероятно велик, я, быть может, преувеличиваю, но готов поклясться, что мог бы вложить два пальца в ужасное углубление, и что ширина его также была не менее двух пальцев. Казалось, что кости здесь вовсе не было, а лишь большая щель, глубокая рытвина, покрытая кожей; и я чувствовал, что мозг пульсировал непосредственно под этой кожей.
Он надел фуражку и весело засмеялся, удовлетворенный произведенным эффектом.
– Это сделал сумасшедший кок, мистер Патгёрст, – косарем для мяса. В то время мы находились в нескольких тысячах миль от берега, в Южно-Индийском океане, но безмозглый кок вообразил, что мы стоим в Бостонской гавани и что я не хочу отпустить его на берег. В ту минуту я стоял к нему спиной и не сообразил, откуда получил удар.
– Но как вы могли оправиться от такой раны? – спросил я. – Должно быть, на судне был великолепный хирург, а вы обладаете удивительной живучестью.
Он покачал головой.
– Должно быть, это следует приписать живучести… и патоке.
– Патоке?
– Да. У капитана были старомодные предрассудки относительно антисептических средств. Он всегда употреблял патоку для перевязки свежих ран. Я лежал на койке много томительных недель – переход был очень длинный – и к тому времени, как мы пришли в Гонгконг, рана зажила, и в береговом враче не было надобности. Я уже нес свою вахту третьего помощника, – в то время у нас было по три помощника капитана.
Только спустя много дней я мог убедиться в том, какую ужасную роль этот шрам на голове мистера Меллера должен был сыграть в его судьбе и в судьбе «Эльсиноры». Если бы я знал это в ту минуту, капитан Уэст был бы разбужен самым необычайным образом, так как к нему явился бы крайне решительный полуодетый пассажир с диким предложением, в случае необходимости, немедленно купить «Эльсинору» со всем ее грузом с условием, чтобы ее тотчас повернуть обратно в Балтимору.
Но теперь я только подивился тому, что мистер Меллер прожил столько лет с такой дырой в голове.
Мы продолжали разговаривать, и он рассказал мне много подробностей этого случая и других случаев в море, в которых играли роль безумцы, по-видимому, переполнявшие все суда.
И все-таки этот человек мне не нравился. Ни в том, что он говорил, ни в его манере говорить я не мог найти ничего дурного. Он казался человеком великодушным, обладающим широким кругозором и, для моряка, вполне светским. Мне нетрудно было простить ему чрезвычайную слащавость речи и излишнюю вежливость обращения. Дело было не в том. Но я все время с тяжелым чувством и, полагаю, интуитивно ощущал, несмотря на то что в темноте не видел даже его глаз, что там, позади этих глаз, внутри этого черепа, скрывалось чуждое мне существо, которое наблюдало за мной, измеряло меня, изучало и говорило одно, думая в то же время совершенно другое.
Когда я пожелал ему спокойной ночи и пошел вниз, у меня было такое чувство, точно я разговаривал с одной половиной некоего двуликого существа. Другая половина молчала. И все же я чувствовал ее, живую и волнующуюся, замаскированную словами и плотью.