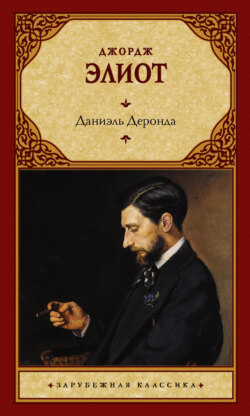Читать книгу Даниэль Деронда - Джордж Элиот, Richard Cameron J. - Страница 18
Часть вторая. Встречные потоки
Глава VI
ОглавлениеОбстоятельства Деронды и в самом деле следовало считать исключительными. Один день запечатлелся в его памяти как главный момент в жизни: день, наполненный ярким светом июльского солнца и сладким ароматом роз, роняющих лепестки на зеленую лужайку, с трех сторон окруженную стенами готического монастыря. Представьте такую картину: тринадцатилетний мальчик лежит на траве в тени, склонившись над книгой и подперев руками кудрявую голову, в то время как его учитель сидит рядом на складном стуле, также погрузившись в чтение. Деронда постигает «Историю итальянских республик» Сисмонди. Мальчик питает страсть к истории и стремится узнать, какие события заполняли наступившие после потопа времена и как обстояли дела в периоды смут. Внезапно он поднимает голову, смотрит на учителя и чистым детским голосом произносит:
– Мистер Фрейзер, почему у пап и кардиналов всегда было так много племянников?
Наставник, одаренный молодой шотландец, в свободное от общения с учеником время исполнявший обязанности секретаря сэра Хьюго Мэллинджера, неохотно оторвался от книги по политэкономии и произнес твердым тоном, благодаря которому правда звучит вдвойне убедительнее:
– Племянниками называли их собственных детей.
– Но зачем? – удивился Деронда.
– Чтобы соблюсти приличия. Как тебе хорошо известно, католические священники не женятся, так что все дети пап и кардиналов были незаконными.
Выпятив нижнюю губу, последнее слово мистер Фрейзер произнес особенно жестко – исключительно из-за нетерпеливого желания вернуться к чтению – и снова сосредоточил внимание на книге. А Даниэль внезапно сел, словно кто-то его ужалил, и повернулся к учителю спиной.
Он всегда называл сэра Хьюго Мэллинджера дядей, а когда однажды спросил о родителях, баронет ответил:
– Отца и мать ты потерял, когда был совсем маленьким, поэтому я и забочусь о тебе.
Пытаясь что-нибудь различить в тумане младенчества, Даниэль смутно вспомнил многочисленные поцелуи и тонкую, воздушную, благоухающую ткань, но потом пальцы наткнулись на что-то твердое, стало больно, и он заплакал. Все другие воспоминания были сосредоточены на замкнутом мирке, в котором он обитал и по сей день. В то время Даниэль не стремился узнать больше: он слишком любил сэра Хьюго Мэллинджера, чтобы сожалеть об утрате неведомых родителей. Жизнь улыбалась мальчику лицом доброго, снисходительного и жизнерадостного дяди – красивого, полного сил мужчины в рассвете лет, которого Даниэль считал образцом совершенства, обитавшем в одном из лучших поместий Англии: старинном, романтичном и уютном. Особняк в Аббатстве-Топинг представлял собой живописно перестроенный монастырь, сохранивший остатки старинных стен. Второе поместье, Диплоу, располагалось в другом графстве на сравнительно небольшом земельном участке.
Оно пришло в семью по женской линии: от богатого юриста, носившего парик эпохи Реставрации, в то время как права на Аббатство-Топинг Мэллинджерам даровал Генрих VIII. Соседним поместьем, Кинг-Топинг, они владели с незапамятных времен.
История рода Мэллинджеров началась с некоего Хью де Маллингра – француза, прибывшего в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем и обладавшего слабой конституцией, счастливым образом укрепившейся в продолжателях рода. Два ряда предков – как прямых, так и косвенных, женщин по мужской линии и мужчин по женской – смотрели на Даниэля со стен крытой галереи. Мужчины в доспехах, с остроконечными бородами и тонкими выгнутыми бровями; стянутые корсетами женщины в кринолинах, с огромными воротниками-жабо; мрачного вида мужчины в черном бархате, с искусственно увеличенными бедрами, и прекрасные испуганные женщины с маленькими мальчиками на руках; улыбающиеся политики в величественных париках и напоминающие породистых кобыл леди с похожими на бутоны губами и тяжелыми веками. И так до сэра Хьюго и его младшего брата Хенли. Последний женился на мисс Грандкорт, вместе с поместьями приняв ее имя, и таким образом объединил два древних рода. Все преимущества многих поколений предков сошлись в личности того самого Хенли Мэллинджера Грандкорта, с которым мы пока знакомы лучше, чем с сэром Хьюго Мэллинджером или его племянником Даниэлем Дерондой.
Сэр Томас Лоуренс[18] изобразил молодого сэра Хьюго в сюртуке с загнутыми уголками высокого воротника и с широким белоснежным шейным платком. Художник достоверно передал приятно оживленное выражение лица и сангвинический темперамент, по-прежнему свойственные джентльмену, однако несколько польстил оригиналу, слегка удлинив нос, который на самом деле выглядел немного короче, чем можно было ожидать от носа истинного Мэллинджера. К счастью, правильный семейный нос сохранился в младшем брате и во всей аристократической утонченности передался племяннику Хенли Мэллинджеру Грандкорту. Однако во внешности племянника Даниэля Деронды не нашло отражения ни одно из представленных в фамильной галерее многочисленных лиц. И все же он оказался красивее всех предков, а в возрасте тринадцати лет вполне мог бы служить моделью для любого живописца, желавшего запечатлеть на холсте самый чистый и запоминающийся образ мальчика. Встретив этого ребенка и внимательно посмотрев ему в лицо, вы не могли не подумать, что его предки отличались благородством, но потомки вполне могут оказаться еще более благородными. Подобная возвышенная сила свойственна самым красивым детским лицам, и, созерцая безмятежные черты, мы испытываем опасения, как бы их не осквернили грязные, низменные начала и тягостные печали, неизбежные на жизненном пути.
В эту минуту, на зеленой траве среди лепестков роз, Даниэль Деронда впервые познакомился с подобной печалью. Новая мысль проникла в чуткое сознание и начала влиять на строй привычных мыслей точно так же, как внезапно появившаяся на небе опасная туча мгновенно влияет на счастливую беззаботность путешественников. Мальчик сидел абсолютно неподвижно, повернувшись спиной к наставнику, но лицо его отражало стремительную внутреннюю борьбу. Густой румянец, окрасивший щеки поначалу, постепенно сходил, однако черты сохраняли то не поддающееся описанию выражение, которое возникает, когда происходит новое осмысление знакомых фактов. Он рос вдали от других мальчиков, а потому ум его являл собой то причудливое сочетание детского невежества и удивительного знания, которое чаще присуще живым, сообразительным девочкам. Увлекаясь пьесами Шекспира и книгами по истории, Даниэль обладал способностью с мудростью начитанного подростка рассуждать о людях, родившихся вне брака и оттого обреченных на лишения. Чтобы занять положение, изначально дарованное законнорожденным братьям, им приходилось постоянно доказывать собственное равенство, проявляя героизм. Однако мальчик никогда не применял добытые из книг знания к собственной судьбе, казавшейся такой простой и понятной – до того момента, пока внезапное озарение не побудило сравнить обстоятельства собственного рождения с обстоятельствами рождения многочисленных племянников пап. Что, если человек, которого он всегда называл дядей, на самом деле не кто иной, как отец? Некоторые дети, даже моложе Даниэля, познают первые переживания, ворвавшиеся в жизнь подобно зловещему незваному гостю, когда обнаруживают, что родители, которые прежде покупали все, что хотелось, испытывают жесткие денежные затруднения. Даниэль тоже ощутил присутствие незваного гостя, явившегося с маской на лице и подтолкнувшего к туманным догадкам и ужасным откровениям. Интерес, прежде направленный на воображаемый книжный мир, теперь неожиданно сосредоточился на истории собственной жизни; он пытался объяснить уже известные факты и задавал себе новые, болезненно острые вопросы. Дядя, которого мальчик любил всей душой, предстал в образе отца, хранившего главную жизненную тайну и поступившего с ним дурно – да, дурно: ибо что стало с мамой, у которой его забрали? Спрашивать взрослых Даниэль не мог: любые разговоры на эту тему распаляли воображение подобно огненному столбу. Стремительный поток новых образов впервые в жизни захлестнул сознание и не оставил места для спасительной мысли о том, что душевный трепет вполне может оказаться порождением собственной буйной фантазии. Жестокое противоречие между непреодолимым потоком чувств и страхом разоблачения нашло выход в крупных слезах, медленно катившихся по щекам до тех пор, пока не раздался голос мистера Фрейзера:
– Даниэль, разве ты не видишь, что сидишь на книге?
Не оборачиваясь, мальчик тут же поднял книгу с травы, взглянул на смятые страницы и ушел в парк, чтобы незаметно вытереть слезы. Первое потрясение от догадки миновало, уступив место сознанию, что он не знает наверняка, как развивались события, и сочиняет собственную историю точно так же, как часто сочинял истории о Перикле или Колумбе – просто для того, чтобы заполнить пробелы биографии до того, как герои прославились. Однако было несколько обстоятельств, действительность которых не вызывала сомнений: так остатки моста безошибочно указывают расположение арок, – а еще через минуту страшная догадка показалась кощунственной, подобно религиозному сомнению, и оскорбительной, подобно клевете или низменной попытке узнать то, чего знать не полагалось. Вряд ли существовало чувство столь тонкое и деликатное, чтобы душа мальчика не смогла его принять. В результате мучительных переживаний мальчик взглянул на все события своей жизни в новом свете. Подозрение, что окружающие могут знать что-то, о чем не хотят упоминать, послужило основанием скрытности, несвойственной его возрасту. Отныне Даниэль прислушивался к словам, которые до этого июльского дня пролетели бы мимо ушей, а каждое незначительное событие, мгновенно связанное воображением с затаенными подозрениями, порождало новый фонтан чувств.
Одно из таких событий произошло спустя месяц и оставило глубокий след в сознании. Даниэль не только обладал волнующим детским голосом, способным распахнуть небеса и погрузить землю в райскую идиллию, но и отличался великолепным слухом, а потому очень рано начал петь, аккомпанируя себе на фортепиано. Вскоре его начали учить музыке, и обожавший мальчика сэр Хьюго неизменно просил его выступить перед гостями. Однажды утром, после того как Даниэль спел перед небольшой компанией джентльменов, которых дождь не выпускал из дома, баронет что-то с улыбкой заметил одному из слушателей, а потом позвал:
– Иди сюда, Дэн!
Мальчик неохотно встал из-за инструмента. Украшенная вышивкой полотняная рубашка подчеркивала румянец, а серьезное выражение лица в ответ на аплодисменты придавало ему необыкновенную прелесть. Все смотрели на юного исполнителя с нескрываемым восхищением.
– Что скажешь о будущем великого певца? Не желаешь завоевать поклонение всего мира и покорить публику, как Марио и Тамберлик[19]?
Даниэль мгновенно залился краской и после едва заметной паузы с гневной решимостью произнес:
– Нет, ни за что на свете!
– Ну-ну, довольно! – желая успокоить его, с добродушным удивлением проговорил сэр Хьюго.
Однако Даниэль стремительно отвернулся, убежал в свою комнату и уселся на широкий подоконник, служивший любимым убежищем в свободную минуту. Отсюда он часто смотрел, как заканчивается дождь, а сквозь просветы в облаках пробиваются лучи солнца и освещают огромный парк, где дубы стоят на почтенном расстоянии друг от друга, а лес в отдалении плавно переходит в голубое небо. Этот пейзаж всегда был неотъемлемой частью его дома – частью того благородного комфорта, который казался естественным и неизменным. Пылкая отзывчивая душа впитала его с нежностью и сделала своим. Мальчик отлично представлял, что значит быть джентльменом по рождению. Мало задумываясь о себе – поскольку обладал живым воображением и с увлечением погружался в приключения какого-нибудь литературного героя, – он никогда прежде не предполагал, что может лишиться привычного образа жизни или занять в обществе не то положение, которое занимал любящий и любимый дядя. Говорят (хотя сейчас мало кто в это верит), что можно любить бедность и с благодарностью ее принимать: радоваться дощатому полу, черепичной крыше и беленым стенам, не знать иной роскоши, кроме той, которая предназначена для избранных, и гордиться отсутствием привилегий, не назначенных самой природой. Известны аристократы, добровольно отказавшиеся от изысканного комфорта и просвещенной праздности ради тяжелого физического труда за небольшую плату. Однако вкусы Даниэля полностью соответствовали воспитанию: сцены повседневной жизни не вызывали в его душе ни скуки, ни досады, ни протеста – только восторг, любовь, нежную привязанность. И вдруг мальчика пронзило неожиданное открытие: оказывается, дядя – а возможно, отец – готовит для него карьеру, совершенно непохожую на собственную и, больше того – Даниэль отлично это знал, – недостойную для сыновей английских джентльменов. Он подолгу жил в Лондоне вместе с сэром Хьюго. Чтобы усладить детский слух, тот часто брал племянника в оперу на выступления прославленных теноров, так что образ заслужившего бурные аплодисменты певца ярко запечатлелся в сознании. Однако, вопреки несомненной музыкальной одаренности, сейчас Даниэль с горьким ожесточением восстал против предложения нарядиться в яркий костюм и выйти на сцену, чтобы петь перед благородной публикой, не способной увидеть в артисте ничего, кроме забавной игрушки. Тот факт, что сэр Хьюго хотя бы на минуту представил Даниэля в унизительном положении, неопровержимо доказывал, что было в его рождении нечто раз и навсегда исключавшее его из класса джентльменов, к которому безраздельно принадлежал сам баронет. Услышит ли он об этом? Придет ли время, когда дядя откроет правду? Даниэль со страхом представлял минуту признания; в воображении он предпочитал неведение. Если отец предавался греху – мысленно Даниэль выбирал самые сильные выражения, ибо ощущал душевную рану с той же остротой, с какой мальчик ощущает боль в изувеченной ноге, тогда как посторонние видят лишь результат обычного несчастного случая, – если отец поступал дурно, то пусть лучше для него тайна останется тайной. Известно ли что-нибудь мистеру Фрейзеру? Скорее всего нет. Иначе он не стал бы так прямо и резко отвечать на вопрос о племянниках пап и кардиналов. Подобно взрослым людям Даниэль воображал, что жизненно важный для него вопрос занимает в сознании окружающих столь же значительное место, как и в его собственных мыслях. Знает ли лакей Турвей? И старая экономка миссис Френч? Знает ли помощник шерифа Бэнкс, вместе с которым Даниэль часто объезжает фермы на своем пони? Внезапно вспомнился давний случай: несколько лет назад миссис Бэнкс угощала мальчика сывороткой, а помощник шерифа подмигнул жене, хитро засмеялся и спросил:
– Похож на мать, правда?
Тогда Даниэль подумал, что Бэнкс ведет себя глупо, как это часто бывает с крестьянами, смеющимися над тем, что не смешно. Его обидел и сам смех, и то, что о нем говорят так, как будто он ничего не слышит и не понимает. Но сейчас то мелкое происшествие наполнилось иным смыслом: замечание следовало обдумать. Как он мог походить на мать, а не на отца? Мать должна носить фамилию Мэллинджер, раз сэр Хьюго доводится дядей. Но нет! Возможно, его отец – брат сэра Хьюго, а фамилию сменил точно так же, как это сделал мистер Хенли Мэллинджер, женившись на мисс Грандкорт. Но в таком случае почему дядя никогда не говорит о брате Деронда, как говорит о брате Грандкорте? Прежде Даниэль никогда не интересовался генеалогическим древом: знал только о том предке, который в одном бою убил сразу трех сарацин, – но сейчас мысли устремились в библиотеку, к старинному шкафу, где хранились карты поместий. Там Даниэль однажды заметил украшенный вензелями пергамент, и сэр Хьюго объяснил, что это генеалогическое древо. Выражение показалось странным и непонятным – ведь тогда он был маленьким, почти вдвое моложе, чем сейчас, – и пергамент не вызвал интереса. Теперь Даниэль знал намного больше и мечтал изучить его. Он помнил, что шкаф всегда заперт на ключ, и жаждал проверить. Однако порыв пришлось сдержать – кто-нибудь мог его увидеть, а он ни за что не согласился бы признаться в мучивших его сомнениях.
Именно в таких переживаниях детства и закладываются основные черты характера, в то время как взрослые обсуждают, что ценнее в воспитании – естественные науки или классическая литература. Если бы Даниэль обладал менее пылкой и преданной натурой, скрытые переживания и предположение, что окружающие таят от него нечто неприглядное, могли бы возбудить в нем жестокость и презрение к людям. Однако врожденная способность любить не позволила негодованию и чувству обиды одержать верх. В мире не существовало ни одного человека, к которому мальчик не относился бы с нежностью, хотя порою безобидно поддразнивал – всех за исключением дяди. Даниэль любил его так преданно, как способны любить только дети: возможность находиться в одной комнате с отцом или матерью приносит им счастье, даже если те занимаются собственными делами. Цепочка от дядиных часов, его печати, почерк, манера курить, разговаривать с собаками и лошадьми – все мелкие особенности поведения в глазах мальчика обладали очарованием, равным счастливому утру и совместному завтраку. То обстоятельство, что сэр Хьюго всегда причислял себя к партии вигов, делало как тори, так и радикалов в глазах Даниэля одинаковыми противниками истины и добра. А написанные баронетом книги – будь то рассказы о путешествиях или политические памфлеты – обрели статус Священного писания.
Становится понятно, какую горечь испытал Даниэль, когда заподозрил, что объект его искренней, беззаветной любви не так совершенен, как казалось прежде. Дети требуют, чтобы герои в любых ситуациях оставались безупречными, и с легкостью наделяют их желанными качествами. Первое открытие несостоятельности героя способно поразить сознание глубоко чувствующего ребенка не менее жестко, чем поражает взрослого человека угроза крушения привычной веры.
Однако спустя некоторое время после болезненно пережитого потрясения выяснилось, что, задав вопрос о карьере певца, сэр Хьюго всего лишь провел шутливый эксперимент. Он призвал Даниэля в библиотеку, а когда тот пришел, отвлекся от письма и откинулся на спинку кресла.
– А, Дэн! – добродушно приветствовал он, придвигая одну из старинных, обитых потертым бархатом табуреток. – Подойди и сядь здесь.
Даниэль послушался. Баронет положил руку ему на плечо и взглянул с нежностью.
– Что случилось, мой мальчик? Ты услышал нечто такое, что глубоко тебя расстроило?
Даниэль твердо решил не плакать, но не смог произнести ни слова.
– Видишь ли, когда ты счастлив, все изменения кажутся страшными, – продолжил сэр Хьюго, ласково взъерошив черные кудри мальчика. – Ты не сможешь получить то образование, которое я считаю необходимым, без нашего с тобой расставания. К тому же не сомневаюсь, что многое в школе тебе понравится.
Даниэль ожидал совсем других слов, поэтому новость доставила ему огромное облегчение и придала сил.
– Мне предстоит отправиться в школу? – спросил он.
– Да. Я намерен послать тебя в Итон. Хочу, чтобы ты получил образование истинного английского джентльмена, а для этого необходимо окончить хорошую школу и подготовиться к поступлению в университет: конечно, в Кембридж, ведь там учился я.
Даниэль сначала покраснел, а потом побледнел.
– Что ты на это скажешь? – с улыбкой поинтересовался сэр Хьюго.
– Я хотел бы стать истинным джентльменом, – с подчеркнутой решимостью ответил Даниэль. – И даже поехать в школу, если так должен поступить сын джентльмена.
Несколько мгновений сэр Хьюго молча смотрел на мальчика, понимая теперь, почему тот так рассердился, услышав предложение стать певцом, наконец добродушно спросил:
– Значит, ты готов бросить своего старого дядю?
– Нет, не готов, – пробормотал Даниэль, обеими руками сжимая ласковую ладонь. – Но разве во время каникул я не буду возвращаться домой?
– Непременно будешь, – успокоил его сэр Хьюго. – Но сейчас я собираюсь передать тебя новому наставнику, чтобы перед отъездом в Итон подготовить к школьной жизни.
После этого разговора настроение Даниэля заметно поднялось. Значит, дядя видел его джентльменом, и каким-то непостижимым образом может случиться так, что все подозрения окажутся беспочвенны. Острый ум подсказал искать успокоение в неведении, поэтому казалось надежнее отвлечься от пустых размышлений, а взамен предаться затаившемуся в дальнем уголке души юношескому задору и веселью. Время до отъезда в Итон пролетело в песнях, в танцах со старыми слугами, в прощальных подарках и настойчивых напоминаниях конюху о том, как следует ухаживать за черным пони.
– Мистер Фрейзер, как вы думаете, я буду знать намного меньше других мальчиков? – спросил Даниэль. Почему-то ему казалось, что все вокруг удивятся его невежеству.
– Болваны встречаются везде, – ответил рассудительный мистер Фрейзер. – Хуже других ты точно не будешь, но в то же время задатков Порсона[20] или Лейбница[21] у тебя не наблюдается.
– Я не собираюсь становиться ни Порсоном, ни Лейбницем, – возразил Даниэль. – Другое дело – великий герой, как Перикл или Вашингтон.
– Да-да, конечно. Считаешь, что они обходились без грамматического разбора и арифметики? – ехидно заметил мистер Фрейзер, в действительности считая ученика выдающимся парнем, которому все дается исключительно легко – стоит только захотеть.
В новом мире жизнь Даниэля складывалась замечательно за исключением того обстоятельства, что мальчик, с которым ему сразу захотелось крепко подружиться, много рассказывал о доме и родителях, явно ожидая ответной откровенности. Даниэль мгновенно замкнулся, а неожиданный опыт помешал тесной дружбе, к которой он искренне стремился. Все, включая наставника, считали Деронду замкнутым, но в то же время настолько добродушным, скромным, способным к ярким достижениям как в учебе, так и в спорте, что скрытность вовсе не портила его характер. Несомненно, огромную роль в столь благоприятном отношении сыграло лицо Даниэля, но в данном случае его обаятельная красота не таила фальши.
Однако перед первыми каникулами он получил неожиданную весть из дома, усилившую молчаливое переживание затаенного горя. Сэр Хьюго сообщил в письме, что женился на мисс Рэймонд – очаровательной леди, которую Даниэль, должно быть, помнит. Событие не повлияет на его приезд в Аббатство на каникулы. Больше того, в леди Мэллинджер Даниэль обретет добрую подругу, которую, несомненно, полюбит. Сэр Хьюго не сомневался в будущей душевной привязанности и вел себя как человек, который сделал нечто полезное и приятное для себя и просит всех остальных разделить с ним радость.
Не будем строго судить сэра Хьюго до тех пор, пока не выяснятся причины его поступка. Ошибки в его поведении относительно Деронды были вызваны тем вопиющим непониманием чужого сознания, особенно сознания детей, которое часто встречается даже у таких хороших людей, как баронет. Сэр Хьюго лучше всех понимал, что знакомые и незнакомые видят в Даниэле вовсе не племянника, а сына, и подозрение тешило его самолюбие. Воображение баронета ни разу не потревожил вопрос, каким образом загадочные обстоятельства рождения подействуют на самого мальчика – будь то сейчас или в будущем. Он просто любил Даниэля так, как умел любить, и желал ему всевозможного добра. Учитывая ту легкость, с которой относятся к воспитанию респектабельные джентльмены, сэр Хьюго Мэллинджер вряд ли заслуживает особенно строгого упрека. До сорока пяти лет он прожил холостяком и при этом всегда считался обворожительным мужчиной с элегантным вкусом. Что же может быть естественнее, чем отеческая забота о таком прекрасном мальчике, как маленький Деронда? Мать, возможно, принадлежала к светскому обществу и встретилась с сэром Хьюго во время его заграничных путешествий. Возражений не возникало ни у кого, кроме самого мальчика, которого ни о чем не спросили, да и не могли спросить в силу его возраста. Однако и впоследствии никто никогда не задумывался о его чувствах.
К тому времени, когда Деронда собрался поступать в Кембридж, у леди Мэллинджер уже родились три очаровательные малышки, все три – дочери к величайшему разочарованию сэра Хьюго. Желанным ребенком всегда считался сын. В отсутствие наследника титул и все состояние переходили к племяннику сэра Хьюго – Мэллинджеру Грандкорту. Относительно собственного рождения Даниэль уже не сомневался: постепенно стало совершенно ясно, что сэр Хьюго доводится ему отцом. А упорное молчание на эту тему самого баронета подсказывало, что он желает, чтобы сын так же молчаливо осознал этот факт и без лишних слов принял отношение, в котором любой посторонний наблюдатель увидел бы нечто большее, чем должная любовь и забота. Женитьба сэра Хьюго, несомненно, могла бы рассматриваться некоторыми юношами в положении Деронды как новый повод для недовольства. В то же время застенчивая леди Мэллинджер и не заставившие себя ждать девочки рисковали стать объектами презрения, поскольку привлекли к себе значительную часть обожания и средств баронета, забрав их у того, кто считал себя главным обладателем его благосклонности и внимания. Однако ненависть к вставшим на пути невинным существам – глупость, вовсе не свойственная Даниэлю. Даже негодование, в течение долгого времени жившее в душе рядом с преданностью сэру Хьюго, постепенно утратило остроту и переродилось в тупую боль.
Осознание врожденного недостатка – подобно изуродованной ноге, сомнительно скрытой обувью, – может с легкостью ожесточить эгоцентричную натуру. Однако в редких случаях способность воспринимать свое горе лишь крошечной точкой среди множества подобных горестей других переплавляет безутешную печаль в чувство товарищества и сочувствие ко всем несчастным. Изначально наполненная горячим негодованием и уязвленной гордостью впечатлительная натура Деронды заставила его еще в детстве задуматься о некоторых жизненных вопросах, придала новое направление совести, научила сочувствию и самостоятельности в принятии определенных решений – иными словами, вооружила качествами, отличавшими его от других молодых людей значительно больше, чем подаренные природой таланты.
18
Лоуренс Томас (1769–1830) – английский живописец-портретист.
19
Марио Джованни (наст. имя Джованни Маттео де Кандиа, 1810–1883) и Тамберлик Энрико (1820–1889) – известные итальянские певцы XIX в.
20
Порсон Ричард (1759–1808) – английский философ-классик.
21
Лейбниц Готфрид (1646–1716) – немецкий математик и философ.