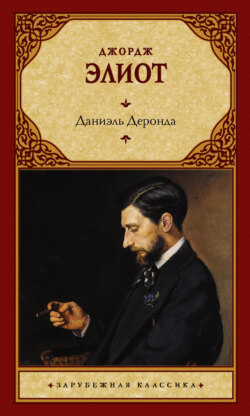Читать книгу Даниэль Деронда - Джордж Элиот, Richard Cameron J. - Страница 4
Часть первая. Избалованное дитя
Глава II
ОглавлениеВот какое письмо Гвендолин обнаружила на столе:
«Дражайшее дитя! Вот уже неделю я жду от тебя известий. В последнем письме ты сообщила, что Лангены намерены покинуть Лебронн и переехать в Баден. Разве можно вести себя настолько беспечно, чтобы даже не сообщить свой новый адрес? Я отчаянно тревожусь: вдруг это письмо не дойдет? В любом случае ты должна была вернуться домой в конце сентября. Сейчас я вынуждена умолять приехать как можно быстрее, ведь если ты истратишь все деньги, прислать еще будет не в моих силах. Занимать у Лангенов ни в коем случае нельзя, так как отдать долг я не смогу. Такова горькая правда, дитя мое. Хотелось бы лучше тебя подготовить, но не получилось: нас постигло ужасное бедствие. Ты не разбираешься в бизнесе и не поймешь тонкостей, но суть заключается в том, что фирма «Грапнелл и компания» потеряла миллион фунтов. Мы с твоей тетушкой Гаскойн абсолютно разорены; твой дядюшка имеет только приход, так что, продав экипаж и поместив куда-нибудь мальчиков, семья сможет кое-как свести концы с концами. Все состояние, доставшееся от нашего бедного отца, идет на погашение задолженности. У меня ничего не осталось. Лучше, чтобы ты узнала все и сразу, хотя сердце разрывается от боли. Конечно, мы не можем не сожалеть, что ты уехала именно в это время. Но поверь, дорогое дитя: от меня ты не услышишь ни слова упрека. Если бы могла, я оградила бы тебя от всех неприятностей. По пути домой у тебя хватит времени подготовиться к предстоящим переменам. Возможно, мы сразу покинем Оффендин, поскольку надеемся, что мистер Хейнс, который и прежде проявлял интерес к поместью, не замедлит воспользоваться случаем. Разумеется, в дом священника переехать не удастся: там не найдется для нас угла. Придется поискать какую-нибудь хижину, чтобы не оказаться на улице, и до тех пор, пока я не придумаю, что делать дальше, жить на подаяния твоего дяди Гаскойна. Расплатиться с торговцами мне нечем, ведь надо еще выдать жалованье слугам. Мужайся, дорогое дитя; нам предстоит положиться на волю Божью. Однако нелегко смириться с безнравственным легкомыслием мистера Лассмана, из-за которого, говорят, и случилась катастрофа. Твои бедные сестры только плачут вместе со мной, не в силах ничем помочь. Если бы ты оказалась рядом, луч солнца пробился бы сквозь тучи: я никогда не поверю, что ты создана для бедности. Если Лангены захотят остаться за границей, может быть, тебе удастся найти другое сопровождение. Только как можно скорее возвращайся к своей страдающей и любящей мамочке.
Фанни Дэвилоу».
В первое мгновение письмо оглушило и ошеломило Гвендолин. Безоговорочная уверенность в собственной легкой, гладкой, роскошной судьбе, где любые случайно возникшие неприятности устраняются сами собой, владела ее сознанием еще более властно, чем маминым, подкрепляясь жаром молодости и вошедшим в плоть и кровь чувством собственного превосходства. Внезапно поверить в грядущую бедность и унизительную зависимость ей было столь же трудно, как допустить в бурный поток цветущей жизни ледяной ручей осознания неминуемой смерти. Несколько минут Гвендолин стояла неподвижно, а потом сорвала с головы шляпу и машинально посмотрела в зеркало. Локоны гладких светло-каштановых волос сохранились в безупречном, достойном бального зала порядке. Прежде она бы долго и с удовольствием созерцала собственное отражение (вполне позволительная слабость), однако сейчас, даже не заметив достойной восхищения красоты, смотрела в пространство, словно только что услышала отвратительный звук и теперь дожидалась сигнала, чтобы понять источник его происхождения. Наконец, словно очнувшись, Гвендолин забилась в угол красного бархатного дивана, снова взяла письмо, дважды внимательно прочитала, бросила на пол, сжала руки на коленях и застыла, не проронив ни слезинки. Хотелось обдумать ситуацию и найти выход, а не оплакивать собственную горькую долю. В душе не прозвучал возглас «бедная мама!», ибо мама никогда не получала от жизни настоящей радости. Если бы в эту минуту Гвендолин могла кого-то пожалеть, то в первую очередь пожалела бы себя: разве не она естественно и заслуженно представляла главный объект маминой тревоги? Но душой овладели гнев и разочарование: надо же было так бездарно, за один вечер, потерять все, что удалось выиграть в рулетку! Еще немного удачи, и можно было бы привезти домой весьма значительную сумму или снова испытать судьбу и приобрести капитал, способный поддержать семью. Но разве сейчас это невозможно? В ридикюле оставалось всего четыре наполеондора, но ведь можно продать кое-какие украшения: на курортах Германии подобная практика настолько распространена, что стыдиться абсолютно нечего. Даже не получив маминого письма, Гвендолин скорее всего решила бы выручить некую сумму за этрусское ожерелье, которое со дня приезда так ни разу и не надела. Более того, она сделала бы это, с удовлетворением осознавая, что живет ярко, энергично и совсем не скучно. Имея в распоряжении десять наполеондоров и заручившись прежней удачей, что вполне возможно, почему бы не поиграть еще несколько дней? Даже если дома друзья осудят способ получения денег, что непременно произойдет, сами-то деньги никуда не денутся. Богатое воображение оценило план и сформулировало благоприятные последствия, однако без нерушимой уверенности и стремительно растущей эйфории, характерной для болезненной игровой зависимости. Гвендолин обратилась к рулетке не по зову страсти, а по осмысленному выбору. Сознание здраво оценивало возможности: в то время как шанс выигрыша привлекал, шанс потери маячил с равным упорством, пугая жестоким унижением. Она твердо решила не говорить Лангенам о постигшем семью несчастье, чтобы не обременять напрасным сочувствием ни их, ни себя. Если придется расстаться со значительным количеством драгоценностей и отсутствие их станет заметным, непременно последуют расспросы и увещевания. Самый спокойный, лишенный риска и неизбежных трудностей путь – это завтра же рано утром продать ожерелье, без объяснений сообщить Лангенам, что мама просит срочно вернуться домой, и вечерним поездом уехать в Брюссель. Поскольку горничной Гвендолин не держала и путешествовать собиралась в одиночестве, следовало ожидать резких возражений, однако ее решимость была непреклонна.
Вместо того чтобы лечь спать, она зажгла все свечи и начала складывать вещи, лихорадочно думая о том, что может произойти на следующий день: утомительное объяснение и прощание, а затем преждевременное и нежелательное возвращение домой, где жизнь стала иной, или альтернатива в виде дерзкой попытки задержаться еще на день и снова испытать счастье в рулетку. Однако игра в рулетку омрачалась присутствием Деронды, чей ироничный взгляд, казалось, неминуемо ведет к проигрышу. Этот назойливый образ решительно склонял к немедленному отъезду и заставлял довести сборы до такой стадии, когда перемена планов оказалась бы затруднительной. Когда последние вещи были упакованы, сквозь белые шторы уже пробивалась слабая заря. Стоило ли ложиться спать, когда наступило утро? Холодная ванна в достаточной степени освежила, а легкие тени усталости под глазами лишь придали лицу интересную таинственность. К шести часам мисс Харлет предстала в полном дорожном облачении: в сером костюме и даже в фетровой шляпке, – решив, что выйдет на улицу в тот час, когда другие леди отправятся к целебным источникам. Присев и облокотившись на спинку стула, словно позируя для портрета, она взглянула на себя в зеркало. Можно пылко любить собственную персону, испытывая при этом не самодовольство, а недовольство собой – чувство более сильное, ибо все движения души подчиняются эгоистичному самолюбию. Впрочем, Гвендолин понятия не имела о подобном внутреннем соперничестве, а наивно восторгалась очаровательным образом. Все, кроме самых суровых праведников, конечно, снисходительно отнесутся к девушке, изо дня в день встречавшей объективное отражение своей красоты как в лести подруг, так и в каждом встречном зеркале. И даже сейчас, на пороге серьезных неприятностей, когда за неимением других дел она сидела, глядя на себя в растущем дневном свете, выражение счастливого довольства на лице расцветало и укреплялось вместе с жизнерадостным сиянием утра. Улыбка на прекрасных губах с каждым мгновением становилась все увереннее, пока, наконец, Гвендолин не сняла шляпу и не склонилась, чтобы поцеловать холодное, но излучавшее скрытое тепло зеркало. Разве можно верить в несчастье? Если несчастье придет, ей достанет сил оттолкнуть его, победить или хотя бы спастись бегством, как уже случалось. Любой выход казался более вероятным, чем пассивная покорность страданию, большому или малому.
Мадам фон Ланген никогда не выходила из своих комнат до завтрака, так что ничто не мешало Гвендолин закончить раннюю прогулку, вернувшись домой по Оберштрассе, где располагался нужный магазин, открывавшийся в семь часов. В это время все нежелательные свидетели либо прохаживались возле источников, либо еще нежились в постелях. Однако из окон одного фешенебельного отеля – «Царина» – приближение молодой леди к двери магазина мистера Винера могло быть замечено. Что же, придется рискнуть: разве нельзя зайти к золотых дел мастеру, чтобы купить поразившее воображение украшение? Несостоятельность довода пришла на ум, когда Гвендолин вспомнила, что именно в этом отеле остановился Деронда, однако в этот момент она уже прошла значительную часть Оберштрассе. Точнее, пролетела: мисс Харлет шагала с обычной стремительной легкостью; наряд мягко облегал и подчеркивал гибкие линии фигуры, приятные любому зрителю за исключением того, который находил в них излишне близкое сходство со змеей и непримиримо возражал против возрождения змеиного культа. По сторонам она не смотрела, а в магазине заключила сделку со спокойной холодностью, не позволившей мистеру Винеру сделать ни единого замечания, кроме как о ее гордой грации в манерах, а также о превосходном размере и великолепном качестве трех камней бирюзы в центре предложенного ожерелья. Когда-то они украшали принадлежавшую отцу золотую цепочку, но отца своего Гвендолин не знала, а потому считала, что имеет право без сожаления расстаться с ожерельем. Кто полагает, что невозможно в одно и то же время быть суеверным и рациональным? Рулетка поощряет романтическое суеверие относительно шансов игры и в то же время порождает самую прозаичную рассудочность относительно чувств, преграждающих путь к получению необходимых денег. Больше всего Гвендолин огорчало то обстоятельство, что к дремлющим в ридикюле четырем наполеондорам она смогла прибавить всего девять: евреи-коммерсанты так бессовестно наживались на неудачливых в игре христианах! Однако она жила в апартаментах Лангенов в качестве гостьи, а потому не должна была платить. Тринадцати наполеондоров хватит не только на дорогу домой: даже если рискнуть тремя, то оставшихся десяти будет вполне достаточно, чтобы вернуться в Англию – ведь поедет она без остановок и ночевок в отелях.
Вернувшись и, больше того, устроившись в гостиной в ожидании друзей и завтрака, Гвендолин все еще сомневалась, имеет ли смысл торопиться с отъездом. Постепенно созрело решение сообщить Лангенам, что мама прислала письмо, в котором просит вернуться, однако время отъезда оставить открытым. Устав и проголодавшись, Гвендолин откинулась на спинку кресла. Привычное время завтрака уже наступило, а потому, услышав шаги, она встала, ожидая увидеть кого-нибудь из Лангенов и собираясь произнести слова, позволявшие отложить отъезд еще хотя бы на день, однако в комнату вошел слуга с небольшим пакетом, оставленным на ее имя. Гвендолин взяла посылку и поспешила в свою комнату. Сейчас она выглядела еще более бледной и взволнованной, чем в тот момент, когда в первый раз читала мамино письмо. Еще не открыв пакет, она почему-то – неизвестно, что вызвало странную уверенность, – поняла, что держит в руках то самое ожерелье, с которым только что рассталась. Помимо бумаги оно оказалось завернуто в батистовый платок. Там же обнаружился клочок бумаги, где карандашом, четким, но торопливым почерком было написано:
«Незнакомец, нашедший ожерелье мисс Харлет, возвращает его в надежде, что больше она не станет рисковать утратой прекрасного украшения».
Раненая гордость заставила Гвендолин покраснеть. Угол платка был небрежно оторван, чтобы уничтожить метку, однако она сразу поверила в первый пришедший на ум образ «незнакомца». Конечно, это Деронда. Должно быть, он увидел, как она вошла в магазин, отправился следом и выкупил ожерелье – поступил непростительно бестактно, поставив ее в постыдное положение. Что же делать? Разумеется, нельзя показать, что она поняла, кто вернул украшение, отослав его обратно. А вдруг предположение ошибочно? Но даже если «незнакомец» действительно он и никто другой, признаться, что она об этом догадалась, стало бы невыносимой вульгарностью. Он не мог не сознавать, что повергает ее в беспомощное унижение: вернуть ожерелье – то же самое, что пристально смотреть и иронически, с видом высокомерного ментора, улыбаться. Гвендолин ощутила, как подступают и катятся по щекам горькие слезы досады и разочарования. Еще никто и никогда не осмеливался относиться к ней с иронией и презрением. Теперь стало абсолютно ясно: необходимо немедленно исполнить почти принятое решение и как можно скорее уехать. Снова появиться в салоне невозможно, и абсолютно невозможно подойти к рулетке с риском наткнуться на пронзительный взгляд Деронды. В этот момент в дверь громко постучали: завтрак подан. Отчаянным движением Гвендолин спрятала ожерелье, платок, записку и все остальное в дорожный несессер, вытерла мокрые щеки, минуту-другую помедлила, чтобы восстановить гордое самообладание, и отправилась к друзьям. Следы усталости и слез вполне соответствовали немедленному отчету о поздних сборах, проведенных самостоятельно, без помощи горничной мадам фон Ланген. Конечно, последовали бурные возражения относительно самостоятельного путешествия, однако все предложения организовать сопровождение Гвендолин решительно отклонила. Она сядет в дамское купе и прекрасно доедет. В поезде можно замечательно отдохнуть, а потому бояться нечего.
Вот так получилось, что Гвендолин Харлет больше не появилась возле игрового стола, а в четверг вечером выехала из Лебронна в Брюссель и в субботу утром прибыла в Оффендин – дом, с которым и ей, и всей семье предстояло проститься навсегда.