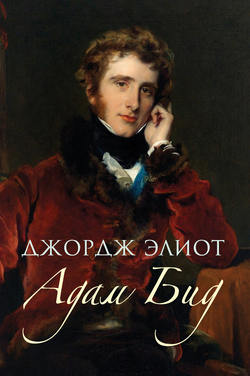Читать книгу Адам Бид - Джордж Элиот, Richard Cameron J. - Страница 11
Книга первая
X. Дина посещает Лисбет
ОглавлениеВ пять часов Лисбет спустилась с лестницы с большим ключом в руке; то был ключ от комнаты, где лежал покойник муж. Весь день, исключая те минуты, в которые она, время от времени, предавалась жалобам и печали, она находилась в беспрестанном движении, исполняя печальные обязанности в отношении к своему покойнику со страхом и точностью, принадлежащими к религиозным обрядам. Она вынула свой небольшой запас беленого холста, который в продолжение многих лет бережно хранила для такого торжественного употребления. Ей казалось, что только вчера было то время, после которого прошло столько знойных лет, когда она говорила Матвею, где лежал этот холст, для того, чтоб он знал и мог достать холст для нее, когда она умрет, ибо она была старше его. Затем ей нужно было заняться другим делом: вычистить до строжайшей чистоты всякую вещь в священной комнате и удалить из нее малейший след обычного насущного занятия. Небольшое окно, до тех пор остававшееся открытым в морозную месячную ночь или при жарком летнем восходящем солнце во время сна труженика, должно было теперь занавесить чистой белой простыней, ибо этот сон одинаково священный как под голыми бревнами, так и в оштукатуренных домах. Лисбет починила даже давнишнюю и не стоившую внимания дыру в пестром лоскутке кроватной занавеси, ибо немногочисленны и драгоценны были теперь минуты, в которые она была в состоянии исполнить хотя бы самую незначительную услугу уважения или любви для неподвижного трупа, которому она во всех своих мыслях приписывала некоторое сознание. Наши покойники никогда не умерли для нас до тех пор, пока мы не забыли их; мы можем оскорблять их, мы можем уязвить их; они сознают все наше раскаяние, всю нашу боль о том, что их место стало пусто, все поцелуи, которые мы раздаем ничтожнейшим остаткам их прежнего присутствия среди нас. А пожилая крестьянка скорее всех верит тому, что ее покойники обладают сознанием. Приличные похороны – вот о чем думала про себя Лисбет в продолжение всех годов своей бережливости и неясно ожидала, что она узнает, когда ее понесут на кладбище и будут провожать муж и сыновья, а теперь она чувствовала, что совершает важнейшее дело своей жизни, заботясь о том, чтоб Матвей был прилично предан земле перед ней – под белым терном, где однажды во сне она видела себя лежащею в гробу, а между тем видела солнечное сияние над собою и слышала запах белых цветочков, которые были так густы в то воскресенье, когда она ходила в церковь, чтоб получить молитву, после рождения Адама.
Но тогда она делала все, что только могло быть сделано в тот день в комнате смерти, и делала все это сама, обращаясь к своим сыновьям за помощью только тогда, когда приходилось поднять что-нибудь. Она не позволяла, чтоб ей на помощь привели кого-нибудь из деревни, так как она не очень то была расположена к соседкам вообще, а любимая ею Долли, старая экономка в доме мистера Берджа, пришедшая выразить ей свое соболезнование в несчастье, лишь только услышала о смерти Матвея, имела очень слабое зрение и, таким образом, не могла быть ей очень полезна. Она замкнула дверь и держала теперь ключ в своей руке, когда, утомленная, бросилась на стул, стоявший не на своем месте, на середине комнаты, где в обыкновенное время она никогда не согласилась бы сесть. На кухню она не обратила в тот день ни малейшего внимания: кухня была запачкана следами грязных башмаков и имела неопрятный вид от разбросанных платьев и других предметов. Но что в другое время было бы невыносимо для Лисбет, привыкшей к порядку и чистоте, то, казалось ей, теперь и должно быть именно так. Ведь все это и должно было иметь странный, беспорядочный и скверный вид, когда старик окончил свою жизнь таким горестным образом, кухня и не должна была казаться такою, как будто не случилось ничего. Адам, побежденный волнениями и заботами этого несчастного дня, после ночи, проведенной за тяжелым трудом, спал на скамейке в мастерской, а Сет находился в задней кухне, разводя огонь щепками, чтоб вскипятить чайник, надеясь убедить свою мать выпить чашку чая: его мать редко позволяла себе такую роскошь.
В кухне не было никого, когда Лисбет вошла в нее и бросилась на стул. Она осматривалась кругом смущенным взором на грязь и беспорядок, которые угрюмо освещало яркое послеобеденное солнце. И все это совершенно согласовалось с грустным замешательством ее мыслей – замешательством, нераздельным с первыми часами внезапной грусти, когда бедная душа человеческая походит на человека, который был положен спящим среди развалин обширного города и пробуждается в тягостном изумлении, не зная, рассветает ли день или приходит к концу, не зная, почему и откуда взялось это необъятное зрелище опустошения или почему он сам, одинокий, находится там.
В другое время первая мысль Лисбет была бы: где Адам? Но внезапная смерть мужа снова сделала его в эти часы первым предметом ее нежности, каким он был двадцать шесть лет назад; она забыла о его недостатках, как мы забываем горести нашего исчезнувшего детства, и думала только о расположении к ней молодого мужа и о терпении старика. Она продолжала озираться кругом смущенным взором, пока вошел Сет и стал переставлять некоторые из разбросанных вещей и убирать маленький круглый столик из соснового дерева, чтоб поставить на нем чай для матери.
– Что ты хочешь делать? – сказала она несколько брюзгливым голосом.
– Хочу, чтоб ты выпила чашку чая, матушка, – отвечал Сет нежно. – Тебе будет хорошо от этого; да, кстати, я приберу к стороне несколько вещей вот тут – по крайней мере, в доме будет хоть некоторый порядок.
– Порядок! Как ты можешь еще говорить о том, что хочешь привести в порядок. Оставь так, оставь. Для меня уж не будет больше прежнего спокойствия, – продолжала она, и слезы текли ручьем, когда она начала говорить, – теперь, когда нет уж на свете бедного отца, на которого я стирала и чинила и для которого тридцать лет варила обед… и он был всегда доволен, что бы я ни делала для него… А он был так ловок и проворен: готовил для меня, когда я была больна, и с гордостью приносил ко мне наверх; однажды он даже нес сынишку, который весил за двух детей, пять миль, всю дорогу до самого Ворстон-Века, а мне нужно было сходить туда, чтоб повидаться с сестрою, которая и умерла в те же рождественские праздники. И он делал это всегда так охотно, без всякого ропота! И вот нужно же было ему утонуть в ручье, через который мы шли в день нашей свадьбы вместе домой… и он наделал мне вот все эти полки, для того чтоб я могла поставить мои тарелки и другие вещи, и с гордостью показал мне на них, так как знал, что это будет мне приятно. И нужно же было умереть ему без моего ведома, когда я лежала себе сонная в постели, будто мне и дела нет никакого до этого. Ах, и я дожила до того, чтоб увидеть это! А мы когда были молоды, то вот думали, что будем счастливы, когда женимся. Нет, родной, оставь это, оставь! Не хочу я никакого чаю – мне уж нечего больше заботиться о том, чтоб я ела и пила. Когда одна сторона моста обрушится, какая польза от другой стороны, хотя она еще и цела? Пусть и я лучше умру и последую за стариком. Кто знает, может, я и нужна ему!
Тут Лисбет перешла от слов к стонам, то наклоняясь вперед, то откидываясь на стуле. Сет, всегда робкий в обращении в матерью, ибо чувствовал, что не имел никакого влияния на нее, видел, что тщетны были бы его старания убедить ее или успокоить до тех пор, пока горе не утихнет несколько. Таким образом, он довольствовался тем, что присматривал за огнем в задней кухне и складывал отцовские платья, которые еще утром были вывешены, чтоб просохнуть. Он боялся шевелиться в комнате, где сидела его мать, чтоб не раздражить ее еще более.
Но Лисбет, покачавшись и постонав несколько минут, вдруг остановилась и громко сказала про себя:
– Пойду да посмотрю на Адама… не знаю, право, куда он делся? А мне нужно сходить с ним наверх, пока еще не стемнело, ибо минуты, когда еще можно мне посмотреть на покойника, проходят, как тающий снег.
Сет расслышал это и, снова войдя в кухню в то время, когда его мать поднялась со стула, сказал:
– Адам спит в мастерской, матушка. Ты уж лучше не буди его. Он ведь замучился от работы и беспокойства.
– Будить его? Кто же идет будить его? Разве я разбужу его, если взгляну на него? Я не видала его вот уж два часа… мне кажется я забыла, что он вырос с тех пор, как отец нес его на руках за мной.
Адам сидел на грубой скамейке, поддерживая голову рукою, которая от плеча до локтя покоилась на длинном верстаке, стоявшем посередине мастерской. Казалось, он присел, чтоб только отдохнуть несколько минут, и заснул, не переменив положения, вызванного грустной, томительной мыслью. Его лицо, неумытое со вчерашнего дня, было бледно и в холодном поту, его волосы были взъерошены около лба, а закрытые глаза провалились, как это всегда бывает после продолжительного бдения и при сильном горе. Его брови были нахмурены, и все лицо выражало истощение и страдания. Джип явно находился в беспокойном состоянии духа, ибо он сидел, положив морду на выдвинувшееся колено господина, и, проводя время в том, что лизал бессознательно спущенную руку, и прислушиваясь, оглядывался на дверь. Бедное животное было голодно и неспокойно, но не хотело оставить своего господина и с нетерпением ожидало какой-нибудь перемены в сцене. Это чувство со стороны Джипа было виной того, что когда Лисбет вошла в мастерскую и приблизилась к Адаму, как только могла, без шуму, то ее намерение не разбудить его было в ту же минуту уничтожено, ибо волнение Джипа было слишком сильно и не могло не выразиться коротким, но резким лаем, и в одну минуту Адам открыл глаза и увидел, что его мать стояла перед ним. Это нисколько не разнилось от его видений, ибо он во сне почти снова переживал – в лихорадочном бреду – все, что случилось с рассвета, и его мать с слезливой тоской представлялась ему сквозь все, что он видел. Главная разница между действительностью и видением состояла в том, что во сне Хетти беспрестанно являлась ему как живая, странно вмешиваясь, как действующее лицо, в сцены, до которых ей решительно не было никакого дела. Она была даже у Ивового Ручья; она рассердила его мать, войдя к ним в дом, и он встретил ее в нарядном, но совершенно мокром платье, когда шел во время дождя в Треддльстон, чтоб сообщить о случившемся следственному приставу. Но куда бы ни шла Хетти, его мать непременно следовала за ней вскоре, и когда он открыл глаза, то нисколько не удивился, увидев мать, стоявшую около него.
– Ах, родной мой, родной! – в ту же минуту воскликнула Лисбет жалостливо, получив возможность сетовать, ибо горесть, когда еще свежа, чувствует потребность соединить потерю и плач со всякою переменой сцены и случая. – Кроме твоей старой матери, некому теперь мучить тебя и быть тебе в тягость: бедный отец уж больше не рассердит тебя никогда, – и твоей матери также можно убраться за ним, и чем скорее, тем лучше, потому что я не приношу теперь пользы никому. Старое платье годится только на починку другого, но на что-нибудь иное оно негодно. Тебе захочется иметь жену, которая будет чинить твои платья и готовить кушанья лучше, нежели твоя старуха мать. А я буду только в тягость, сидя в углу у печки.
Адам содрогался по временам и делал нетерпеливые движения; больше всего он опасался, что его мать заговорит о Хетти.
– Но если б твой отец был жив, он никогда не захотел бы, чтоб я уступила место другой… он ничего не стал бы делать без меня, все равно как одна сторона ножниц ничего не может сделать без другой. Э-э-эх, нам следовало бы отправиться обоим вместе, и тогда я не увидела бы этого дня, и одни похороны годились бы для нас обоих.
Тут Лисбет остановилась, но Адам сидел в тягостном безмолвии; сегодня он должен был говорить со своею матерью не иначе, как только нежно, но эти жалобы не могли не раздражить его. Бедной Лисбет невозможно было знать, какое влияние производило это на Адама, подобно тому как раненая собака не в состоянии знать, какое влияние производят ее стоны на нервы господина. Как все слезливые женщины, она жаловалась в том ожидании, что утешится, и когда Адам не говорил ничего, то это только поощряло ее жаловаться с большею горечью.
– Я знаю, что тебе было бы лучше без меня, ибо ты мог бы идти, куда захотел, и жениться на той, на какой хочешь. Но я не хочу сказать тебе, что мне было бы это неприятно; введи в дом, кого ты хочешь. Я никогда не открыла бы рта, чтоб порицать тебя, ибо люди старые и бесполезные должны быть благодарны за то, что получают чего-нибудь поесть и напиться, хотя вместе с этим они и должны глотать неприятности. И если ты отдашь свое сердце девушке, которая не принесет тебе ничего, а, напротив того, разорит тебя, когда бы ты мог получить девушку, которая сделала бы из тебя человека, то я не скажу ничего теперь, когда твой отец умер и утонул, ибо я не лучше старого черенка, когда пропал клинок.
Адам, будучи не в состоянии переносить долее эти жалобы, молча встал со скамейки и из мастерской вышел в кухню.
Но Лисбет последовала за ним:
– Ты разве не хочешь подняться и посмотреть на отца? Я сделала ему все, что нужно; ему было бы приятно, если б ты пошел взглянуть на него, ибо он был всегда доволен, когда ты обходился с ним кротко.
Адам вдруг повернулся и сказал:
– Да, матушка, пойдем наверх. Сет, пойдем вместе.
Они поднялись наверх. В продолжение пяти минут царствовало глубокое молчание. Затем ключ повернулся снова. На лестнице раздался шум шагов. Но Адам не спустился снова вниз. Он был слишком утомлен и обессилен для того, чтоб еще подвергнуться слезливой горести своей матери, и лег отдохнуть на свою постель. Лишь только Лисбет вошла в кухню и села, как накинула передник на голову и принялась плакать, стонать и качаться, как прежде. Сет подумал: «Она мало-помалу успокоится, так как мы были наверху», и он снова отправился в заднюю кухню, чтоб посмотреть за своим огоньком, надеясь, что он скоро убедит мать напиться чаю.
Лисбет, таким образом, покачивалась взад и вперед больше пяти минут, издавая слабый стон каждый раз, когда тело ее наклонялось вперед, как вдруг она почувствовала, что чья-то рука нежно коснулась ее рук и кто-то сладостным дискантом сказал ей:
– Дорогая сестра, Господь послал меня посмотреть, не могу ли я принесть вам какое-нибудь утешение.
Лисбет обновилась, прислушиваясь, но не снимая своего передника с головы. Голос казался ей чужим. Неужели дух ее сестры возвратился к ней от умершей столько лет назад? Она затряслась и не смела посмотреть.
Дина, понимая, что это безмолвное удивление было само по себе облегчением для горестной женщины, не произнесла ничего более, но тихо сняла свою шляпку и затем, сделав знак молчания Сету, который, услышав ее голос, вошел с бьющимся сердцем в комнату, облокотилась одною рукою на спинку стула Лисбет и наклонилась над старухой, чтоб она могла заметить присутствие друга.
Медленно опустила Лисбет свой передник и робко открыла свои слабые темные глаза. Сначала она не увидела ничего, кроме лица – прозрачного, бледного лица, с исполненными любви серыми глазами, но оно было ей совершенно незнакомо. Ее удивление увеличилось; быть может, то был ангел. Но в то же время Дина снова положила руку на Лисбет, и старуха посмотрела на руку. Рука была гораздо меньше ее собственной, но она не была бела и изящна, ибо Дина никогда в жизни не носила перчаток и ее рука имела на себе следы тяжелой работы с самого детства. Лисбет с минуту озабоченно смотрела на руку и потом, снова устремив глаза на лицо Дины, сказала как бы с возвращающимся мужеством, но с удивлением в голосе:
– Вы работница!
– Да, я Дина Моррис и работаю на бумагопрядильной фабрике, когда нахожусь дома.
– А! – сказала Лисбет медленно, с прежним удивлением. – И вы вошли так легко, как тень на стене, и сказали мне на ухо, так что я подумала – не дух ли вы? У вас, ни дать ни взять, такое же лицо, как вот у ангела, который изображен сидящим у гроба на картинке в Адамовой новой Библии.
– Я пришла теперь с господской мызы. Вы знаете мистрис Пойзер. Она моя тетка; она слышала о вашем большом горе и очень сожалеет о вас. А я пришла посмотреть, не могу ли быть вам в чем-нибудь полезна при вашем несчастье, ибо я знаю ваших сыновей, Адама и Сета, и знаю, что у вас нет дочери, и когда священник сказал мне, как тяжко легла на вас рука Божья, то сердце мое было увлечено к вам, я почувствовала приказание идти и заступить при вас место дочери в этой скорби, если вы только позволите.
– А, я знаю теперь, кто вы, вы принадлежите к методистам, как Сет. Он говорил мне о вас, – сказала Лисбет слезливо: ее сильное чувство скорби возвратилось теперь, когда исчезло ее удивление. – Вы станете доказывать, что несчастье ведет только к добру, как он все говорит. Но что же за польза говорить мне об этом? Своим разговором вам ни на каплю не уменьшите моего несчастья. Вы никогда не заставите меня поверить, что не было бы лучше, если б мой старик умер в постели, когда уж ему было суждено умереть… Если б имел при себе священника, который молился бы за него; если б я сидела у его изголовья и говорила ему… Он забыл бы дурные слова, с которыми я обращалась к нему иногда, в сердцах… Если б давала ему есть и пить до тех пор, пока он только был бы в силах глотать… Но, увы, умереть в холодной воде! И мы были так близко и ничего не знали; и я-то спала, будто и не принадлежала вовсе к нему, будто он был школьник и бродил – кто его знает где!
Тут Лисбет снова начала хныкать и качаться, и Дина сказала:
– Да, любезный друг, ваше горе велико. Тот должен иметь черствое сердце, кто скажет, что ваше несчастье не тяжело перенести. Бог послал меня к вам не для того, чтоб ни во что не ценить вашей печали, а для того, чтоб сетовать с вами, если вы позволите. Если б у вас был накрыт стол для пиршества и вы предавались веселью с вашими друзьями, то вы, верно, подумали, что поступили бы благосклонно, позволив мне прийти, сесть и наслаждаться с вами, ибо вы бы думали, что мне было бы приятно участвовать в вашем пире, но я лучше приму участие в вашем горе и в вашем труде, и потому если б вы отказали мне, то ваш отказ поразил бы меня суровее. Вы не отошлете меня назад? Вы не сердитесь на меня за то, что я пришла?
– Нет, нет! сердиться! Кто сказал, что я сержусь? Это очень хорошо с вашей стороны, что вы пришли. А ты, Сет, отчего не подашь ей чаю? Ты так торопился дать мне чаю, когда мне вовсе не нужно, а вовсе не думаешь дать тем, кому следовало бы. Садитесь, садитесь. Очень благодарю вас, что вы пришли, ибо вы получите небольшое вознаграждение за то, что идете по сырым полям, желая навестить такую старуху, как я… Нет, у меня нет родной дочери… и никогда не было… и я не печалилась тем, ибо они бедные, жалкие создания, девушки-то… я всегда желала иметь мальчиков, которые могут заботиться о себе сами. Сыновья женятся… и у меня будет довольно дочерей, даже слишком много. Но теперь сделайте чай, как вы хотите, потому что сегодня у меня нет вкусу во рту… мне все равно, что я ни буду глотать… все будет у меня отзываться горем.
Дина не подала и виду, что уже пила чай, и с большою готовностью приняла приглашение Лисбет, желая убедить старуху, чтоб она приняла пищу и питье, в которых так нуждалась после дня тяжкого труда и воздержания.
Сет был так счастлив теперь, когда Дина находилась у них в доме, и как-то поневоле думал, что ее присутствие достойным образом искупало жизнь, в которой горе следовало за горем беспрерывно. Но через минуту он уже раскаивался в этих мыслях: казалось, что он почти радовался горестной смерти своего отца. Тем не менее радость от того, что он находится вместе с Диной, должна была одержать верх: она походила на влияние климата, которого не пересилит никакое сопротивление. Это чувство отразилось на всем его лице таким образом, что обратило на себя внимание матери в то время, когда она пила чай.
– Тебе, конечно, можно говорить, что несчастье ведет к добру, Сет, ибо ты блаженствуешь от него. Кажется, у тебя нет ни заботы, ни печали, как в то время, когда ты был ребенком и, проснувшись, лежал в люльке… И всегда-то ты, бывало, откроешь глаза да и лежишь, не то что Адам… он, бывало, как проснется, не хочет лежать ни одной минуты. Ты всегда был похож на куль с мукой, который никогда нельзя раздавить, а между тем в этом отношении отец твой был совсем другой человек. Но у вас то же самое выражение, – продолжала Лисбет, обращаясь к Дине. – Я полагаю, это происходит оттого, что вы принадлежите к методистам. Не то чтоб я порицала вас за это, ибо у вас нет никакой печали, а между тем лицо ваше выражает скорбь. Э-эх! если методисты любят несчастье, то они также любят и блаженство; жаль, право, что им оно достается не всем и что они не могут отнять его у тех, кому оно неприятно. А я отдала бы его охотно: когда был жив мой старик, то я мучилась с утра и до ночи, а теперь, когда его нет, я была бы рада переносить худшее.
– Да, – сказала Дина, заботливо избегая противоречия чувствам Лисбет, ибо ее упование – в незначительнейших словах и поступках – на божественное руководство проистекало всегда из тончайшего женского такта, происходящего от искренней и всегда готовой симпатии, – да, я также помню, что когда умерла моя дорогая тетка, то мне так и хотелось слышать звук ее болезненного кашля по ночам вместо тишины, воцарившейся, когда ее уж более не было. Но теперь, любезный друг, выпейте еще эту чашку чаю и покушайте еще немного.
– Как, – сказала Лисбет, взяв чашку и говоря уже менее жалобным, тоном, – разве у вас не было ни отца, ни матери, когда вы печалились так о вашей тетке?
– Нет, я никогда не знала ни отца, ни матери. Моя тетка взяла меня еще грудным ребенком. У нее не было детей, ибо она никогда не была замужем, и воспитывала меня так нежно, будто я была ее родной дочерью.
– Ну, было же ей работы с вами, когда она взяла вас еще грудным ребенком, а сама еще была одинокой женщиной… ведь знаете, как трудно выкормить брошенного ягненка? Но, кажется, вы не были упрямы, ибо по вашему виду можно заключить, что вы не упрямились никогда в жизни. Но что же вы стали делать, когда умерла ваша тетка, и отчего не пришли вы жить в наши места, так как мистрис Пойзер также приходится вам теткой?
Дина, заметив, что возбудила внимание Лисбет, рассказала ей историю своей прежней жизни: как она была воспитана для тяжкого труда, что за место было Снофильд, где столько людей ведут тяжкую жизнь – одним словом, передала все подробности, какие, по ее мнению, могли интересовать Лисбет. Старуха внимательно слушала рассказ, забыв свою слезливость и бессознательно подчиняясь утешающему влиянию лица и голоса Дины. Несколько времени спустя она убедилась в том, что можно позволить привести кухню в порядок, ибо Дина настаивала на этом, предполагая, что чувство порядка и спокойствия вокруг нее расположит Лисбет присоединиться к молитве, к которой Дина горячо хотела приступить. Сет между тем вышел наколоть дров, ибо думал, что Дине приятнее будет остаться с его матерью наедине.
Лисбет не сводила с нее глаз все время, как Дина убирала кухню с своим обычным спокойствием, и сказала наконец:
– Как хорошо умеете вы приводить в порядок. Я не скучала бы, если б вы были моей дочерью, ибо вы не тратили бы трудовых денег сыновей на щегольство и другой вздор. Вы не похожи на девушек, которые живут в нашей стороне. Я думаю, люди, живущие в Снофильде, вовсе не похожи на здешних.
– Многие из них ведут совершенно другую жизнь, – сказала Дина. – Они занимаются другими вещами… кто на фабрике, кто в рудах, в окружных деревнях. Но сердце человеческое одно и то же всюду, и там вы найдете детей этого мира и детей духовного мира – так же, как и всюду. Но у нас там методистов гораздо больше, нежели в ваших местах.
– Ну, я не знала, что методистки похожи на вас, потому что у нас тут есть жена Билля Маскри, которая, говорят, большая методистка, а на нее вовсе неприятно смотреть. Я уж лучше посмотрю на жабу. И право, я была бы рада, если б вы остались ночевать здесь, ибо мне было бы приятно увидеть вас в доме утром. Но может, вас будут ждать там, у мистера Пойзера.
– Нет, – сказала Дина, – там не будут ждать меня, и я сама охотно останусь у вас, если вы позволите.
– Это прекрасно! У нас места довольно. Я положу свою постель в небольшой комнате над заднею кухней, а вы можете лечь возле меня. Я буду очень рада, что вы останетесь со мною и что я могу говорить с вами ночью… мне очень нравится, как вы говорите. Ваш разговор напоминает мне ласточек, которые жили у нас прошлый год под кровлей, когда они, бывало, начинали петь тихо и нежно утром. Э-эх! а мой старик так любил этих птичек! И Адам также… Но нынешний год они не возвратились на свое место. Может, они тоже умерли.
– Вот, – сказала Дина, – теперь кухня в порядке. А теперь, дорогая матушка – ведь я ваша дочь сегодня вечером, вы знаете, – мне было бы приятно, если б вы вымыли ваше лицо и надели чистый чепчик. Помните ли вы, что сделал Давид, когда Бог отнял у него сына? Пока сын был жив, он постился и молил Бога пощадить его, ничего не ел и не пил, а всю ночь лежал на земле, воссылая к Богу горячие мольбы о сыне. Когда же он узнал, что сын умер, то встал с земли, умылся и помазался, переменил платье, ел и пил; и когда спросили его, каким образом казалось, что он перестал тосковать, тогда как сын умер, то он отвечал: «До тех пор пока сын был жив, я постился и плакал; ибо я говорил: кто может сказать мне, будет ли Бог милостив ко мне и оставит ли сына в живых? Но теперь, когда он умер, зачем стану я поститься? разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, но он не возвратится ко мне».
– О, как это справедливо! – сказала Лисбет. – Да, мой старик не возвратится ко мне, а я отправлюсь к нему… и чем скорее, тем лучше. Ну, хорошо, делайте со мной, что хотите; чистый чепчик вы найдете вон в том комоде, а я пойду в заднюю кухню и умою лицо. А ты, Сет, пожалуй, достань новую Библию Адама с картинками, и она вот прочтет нам главу. Э-эх, как я полюбила те слова: «Я пойду к нему, но он не возвратится ко мне».
Дина и Сет внутренно благодарили Бога за то, что Лисбет стала гораздо покойнее духом. Вот чего старалась достигнуть Дина посредством всей своей симпатии и воздержания от увещаний! С самого девичества до настоящего времени она приобрела опытность в обхождении с больными и скорбящими, с людьми зачерствелыми и огрубелыми от нищеты и невежества. Она приобрела тончайшее понимание, каким образом можно было лучше всего тронуть и смягчить людей до того, что они соглашались внять словам духовного утешения или предостережения. Так говорила Дина. Она никогда не бывала предоставлена самой себе, но ей внушалось всегда свыше, когда она должна хранить молчание и когда говорить. И разве все мы не согласимся назвать быстрые мысли и благородное побуждение именем вдохновения? Анализируя умственным процессом и строжайшим образом, мы должны всегда сказать, как говорила Дина, что наши высшие мысли и наши лучшие поступки все даются нам свыше.
Таким образом, там вознеслась к небу горячая молитва – там, в тот вечер, в маленькой кухне, изливались вера, любовь и надежда. И бедная, пожилая, слезливая Лисбет, не имея никакой определенной идеи, не проходя ни по какому пути волнений, возбуждаемых религией, сознавала какое-то неопределенное чувство доброты и любви и чего-то справедливого, находившегося за этой жизнью, исполненной одних печалей. Она не могла понимать печали, но в те минуты, под утешающим влиянием гения Дины, она сознавала, что должна быть терпелива и покойна.