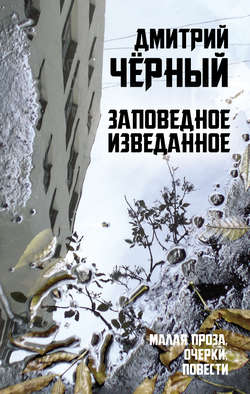Читать книгу Заповедное изведанное - Дмитрий Чёрный - Страница 2
Рассказы, очерки, зарисовки
Вместо собрания
(рассказ)
Оглавлениепришёл в горком на Автозаводскую в сентябре, в пятницу, на собрание. поднялся по долгой лестнице на самый верхний этаж, меня впустил знающий в лицо пожилой дежурный, вернувшийся тотчас к своему телевизору. впустил одновременно деятельно и устало: «Мало ли какие там у них собрания – молодёжь…»
на столе перед залом заседаний – как всегда газеты, в названии которых первое слово «Правда»… в зале никого, пусто и светло, но я привычно прохожу в президиум, сажусь, гляжу в зал, на кинозальные кресла. гляжу из-под украшенного внизу пластмассовым вьюном, несоразмерно большого для помещения белого бюста Ленина на деревянном постаменте. он хмур, но не скептичен, Ленин. суровость реализма, сложность будущности…
так бывало – опаздывают, все работают. или из институтов, не спешат… встаю, гляжу назад в окно, которое выходит на угол, откуда должны появляться идущие, опаздывающие уже на собрание. но никого по-прежнему нет. нет уже достаточно долго, чтобы начать размышлять – не спутал ли день?
улица Автозаводская, дом девятнадцать, корпус два, это самый центр квартала рабочих, скромно-конструктивистских домов, верхний этаж позволяет видеть их достаточно чётко. и как раз наш угол окон – выходит на перекрёсток внутренних дорожек двора домов тридцатых, а может и двадцатых заводских годов. здесь и машины ездят насквозь иногда, здесь и прекрасные бывают лужи, но позже, позже, когда октябрь разольётся… сейчас ещё – будто не включился на полную скорость городской год, нет торопливости, нивелирующей подробности. и осень не разлеглась во всеобозрении своём – на перекрёстке немногие сухие листья, всё неявно пока.
я всегда эту комнату собраний, этот зал воспринимал квартирно как-то, даже в условиях духоты и переполненности, в политическом напряжении. часть эстетики собраний – красные кресла мягкие, как в кино, откидные. сейчас все пусты, на них свет из окон падающий, подчёркивающий их нелюдимость. нет на креслах ничьих вещей, папок, сумок, на подлокотниках – стопок стикеров-агиток… и никаких звуковых признаков присутствия кого-либо из комсомольцев хотя бы в соседних комнатах, в гостях у постоянно тут работающих коммунистов. они привносят семейность на этаж, где накануне митингов и ночует крепкая широкощёкая энтузиастка Оболенская иногда, и дочка её, большеглазая Люба (тонкокостная милашка, задержавшаяся в развитии, но очень умненькая и любопытная). я запомнил комнату напротив «президиумной» двери зала по короткому коридору – именно как Оболенскую вотчину, там иногда чайком угощают наших…
древесно-стружечная трибуна с залапанными дочерна верхними краями (нервными руками ораторов) – пуста, спокойна. никакого движения и в коридорах. наверное, спутал день…
иногда и за помещение борьба – здесь напряжённые взгляды старших партийцев, а нас гонят в другой конец здания, в комнату поменьше, глядящую на эстакаду, чаще это зимой. горком КПРФ занимает всю верхнюю палубу рабочей пятиэтажки (построенной в форме математического знака отрицания), от края до края, здесь и нацболы свои собрания проводили до нападения и кровавых луж внизу, у подъезда. и наши тут бывали комсомольские драки в коридоре, в 2004-м – борьба фракционная, борьба групп влияния, семигинщина, троцкизм… какая роскошь!..
а сейчас – просто пусто. и не грустно, по-домашнему спокойно, я оглядываю предметы, как своих старых партийных товарищей. чёрное пианино у бюста Ленина, на котором я играл в перерывах бюро горкома СКМ «семь-сорок», подзадоривая двух наших нац-безумцев, которые издавали свою газету «Красный опричник» (я красовался на передовице одного из первых номеров – удостоился чести за «голубой» грим, намалёванный для летнего капустника). правее пианино картина – на ней аляповатый матрос, принимающий красное знамя у полуголой Французской революции. соски француженки не выделены, партийная скромность художника не позволила. впрочем, бывают и в жизни такие сосОчки – как раз у француженок-южанок, у сицилиек тоже – сливающиеся с кожей… напротив «преемственности революций» – хорошая копия портрета (нисколько не смущённого эротизмом) делового Ильича, восьмидесятых годов, подаренная ещё горкому КПСС здешнему, Автозаводскому. изумруден бархат на рабочем столе, в который Ленин упёрся карандашом под указательным пальцем, очень похожем на мавзолейный, восковатым по цвету…
как венец рабочего квартала, занял наш горком верхний этаж крайнего здания, «линкора» эскадры пятиэтажек – упершихся в проезжий поток. застывшее движение конструктивизма в будущее… сюда поднимется только упорный, без лифта, по прокуренной своими же активистами лестнице. кажется, она сохранила атмосферу тех двадцатых, когда и строили по всей территории пролетарской столицы такие кварталы…
да, точно я ошибся: вспомнил, собрания перенесли с пятницы на субботу, чем сильно понизили явку. но настрой вовсе не портится, остаётся оптимистичным в этом оставшемся мне одному пространстве. оно всё время что-то сообщает – кажется, читаю нечто важно-эпохальное, но при этом бытовое. гляжу на верхний этаж соседней, параллельной «бортом» пятиэтажки, на крышу её и какие-то коммуникационные железяки возле безмятежно, наивно открытого ветрам и птицам чердачного «скворечника». всё это на фоне близких (через бульвар) заводских серебристых труб вдохновляет, разговаривает голосами не только наших партийных поколений, но и самых стартовых советских… просто мне достался такой день – побыть одному здесь, вторым сторожем, что-то понять вне шума собрания.
время здесь застыло в справедливо-печальной эмоции старших партийцев «у нас украли Родину!» – стены горкома сдерживают, охраняют это время. но снаружи часы ушли: не только день, но – кто знает, кроме будущего (если борьба наша не увенчается победой)? – может, и годы, и десятилетия ушли. и я остался в этой пустоте зала не случайно: рвался все «нулевые» сюда, объединиться, в коллектив единомышленников. и – один.
гляжу ещё дальше, в сторону центра, он виден кое-какими возвышениями. кажется, даже Павелецкая светится за облаками своими остриями… нет, я не буду тут оставаться дольше – вспыхнула солнечная мысль – я пойду! вдохновившее меня помещение ещё и отпускает, подгоняет радостно – я понял, что могу отсюда пройти до дома пешком, поскольку времени собрания, которого нет, вполне хватит на пеший путь. хоть однажды поступить так, как хочется в самые скучные и тягомотные минуты собраний…
да, я должен отсюда уйти пешком – хватаю свой планшет и быстрым шагом выхожу в коридор. дежурный нехотя отрывается от телевизора, там новости телеканала «Россия», как же можно такое пропустить… с вечным укором в прищуре отворяет мне трубчатую дверь, напоминающую милицейские «обезьянники», и я по прокуренной, но сейчас бездымной лестнице, мимо партийных стендов и дверей ниже этажами (которые никогда при нас не открывались) – спешу вниз.
приятен воздух свободы. хоть первым делом встречает тут помойка… отчего-то каждое собрание, всегда бессовестно затягивающееся, оставляет ощущение украденного времени. может, это и индивидуализм обывателя – но всегда думаешь, что мог бы использовать его творчески. здесь всегда набираешься и позитивной коллективности какой-то, но она требовательна, она и забирает время. сложная казуистика оргвопросов, сочетания амбиций, эмоций, интриг – всё это привычно наполняет голосами красивый, светлый зал собраний. почему-то его пустота со мной говорила чётче сегодня… она заставила увидеть то, что за нашими окнами, и заглянуть в следующие. обычно мы на эти окна смотрели как освободители, а я сегодня по-осеннему стал ведомым, внимательным к их собственным подробностям, каким-то детским элементам утвари – там, под чердаками напротив (да, пока мы политические споры здесь разжигали – там кто-то растил детей). мягкость и древесность основ просевших крыш усиливала ощущение домашнего уюта в недомашней пустоте… но вот я на улице.
лужи станут тут красавицами позже, когда в Столицу вступят полчища туч и саданёт артиллерия дождей. зеркалУжи будут отражать эти дома – пока же отражают только отдельные лазутчики влаги. эти стены и навесные лифты красивее в лужах, чем в воздухе.
легко и быстро шагаю там, куда смотрел сверху три минуты назад, понимая, что негоже такой шанс разменять на путь в метро – тоже, конечно, просторном, красивом. «Автозаводская» ведь одна из таких, не подавляющих, высокосвОдчатых… прохожу кафе, прозванное комсомольцами почему-то «Клёном»: здесь некоторые напивались из пластмассовых стаканчиков перед собраниями или вместо них.
кафе переделано из столовки, конечно же. пролетарский быт тут планировался изначально. а ещё здесь же, как бы оправдывая питиЕ непутёвых комсомольцев, просаживает деньги рабочий класс – немногие оставшиеся заводчане ЗИЛа, пришедшие сюда после смены к игровым автоматам на очередной сеанс. нет ничего печальнее – не кому-нибудь, а нам, агитаторам, видеть этих пропитанных кислой пивной испариной работяг, которые уже точно не донесут свои получки до семей…
пробегаю это и следующее заведение – на ускорении, хоть и понимаю, что никого знакомого сейчас тут не встречу. но сторонюсь по привычке… я отвык от чтения Столицы, я заболтался на политическом языке, освоенном мною в совершенстве – в статусе неоднократного секретаря по идеологии-то!.. но это дало и глазу многое, вычитывать научился политику из стен. однако чтение одних и тех же фрагментов текста стен от метро до метро – притупляет внимание, как чтение перед сном, становится ритуальным, невнятным.
там, где чернеет на Автозаводской площади советский призывный памятник послевоенный, многолюдный, уже за правым входом в метро – не смогу пройти сейчас, хотя именно в этот час, выбранный мною, кажется, я готов спокойно воспринять все послания, все смыслы памятников. я спокоен и устремлён. но хочется сразу изменить маршрут и точки зрения: ухожу по переходу налево, минуя бульвар и доску почёта, предзнаменующую местный орган власти. над жёлтой управой за бульваром, рядом с красным, как бы старым советским для привычности (но с лужковским змееубивцем) флагом реет победно триколор – означающий неизменный курс на деиндустриализацию Москвы. вот и пьют и просаживают свои деньги работяги в «Клёне» от безысходности и от того, что деньги это малые, всё равно не пополняющие ненасытный бюджет заведённых в прежние времена семей…
а я проскочил сразу к жилому кварталу мимо забора какой-то базы – наверное, автобазы, их тут много должно быть. во времена газетной своей активности я забегал дальше, за управу, в автоцеха, над ямами ремонтными гарцевал с газетами, оставить номер должен был рекламодателям (Автосервис, присоседившийся на территории ЗИЛа). пятиэтажки – не хрущобы, кирпичные и отделанные как многие сталинские дома, крупной бежевой кладкой. знаю: та сторона, от которой убежал, красива в духе тридцатых. если выйти из последнего вагона метро от центра, как я однажды и вышел-ошибся, не ведая, где горком – упираешься взглядом в зовущую проходную завода. и улица уводит рабочими буднями – там я искал второй коричневый том четырёхтомника Платона на заре девяностых, в старом книжном магазине нашёл, среди детских книжек и детективов…
здесь все улицы названиями отсылают ко времени-работодателю, к индустриальному утру нашей Эпохи: Велозаводская (один из дачных велосипедов у нас как раз зиловский), Первая улица машиностроителей, даже улица Ленинская Слобода есть (как был на Волге, потом, после войны затопленный, и город двух эпох с парадоксальным устным названием Куйбышев-Спасский). тогда заводы обрастали жилыми кварталами, стадионами, которые подвигали монастыри. заводоцентричные окраины пролетарской столицы. это район моего одноклассника и тёзки Михайлова, с детства впитавшего настрой конкуренции – в таких районах расслабляться не принято, соцсоревнование на каждой детской площадке – оно-то и подготовило нежданно-негаданно его к первоначальному накоплению. в этих, уже не детей, а анашу приютивших дворах близ панельных домов сиживал и я в начале девяностых, когда понеслось отсюда и отовсюду что-то куда-то…
за домами цвета осенних листьев, за бензоколонкой, снова торцы домов, и гуляют мне навстречу мамы с колясками – детские глаза жадно изучают и меня, и листья, что к ним ближе. а я вдыхаю этот жилой квартал: тут больше осени, вот где она притаилась! время припустило от меня наутёк, я бы так и не заметил этих перемен, пробегая каменным коридором от метро до горкома… ещё по-летнему открыты окна, и жители ведут себя по дачному – из домов слышатся низкие голоса мужчин в подпитии да и одна из мамаш держит в руке «жезл демократии», банку пива, другая курит. они расслабляются привычным их молодости способом, пытаясь не попадать дымом и разговором в поле зрения детишек. а мальчишкам в сидячих колясках они и не нужны – они, как я, вбирают ноздрями и глазами осенние сообщения. для них ещё машины – новинки…
живая преемственность: детей тут растят, а мы растим в горкоме листовки, акции – но не на бирже, на антибирже… хотя, и тут есть игра на повышение, но пока всё понижение. вот и я просеиваюсь, слегка внедрившись в мир пятиэтажек, сваливаюсь с Симоновского Вала – больше похож Вал на шоссе, но название знакомое. это неприятный момент, так как из положения ведомого неизвестностью, новыми названиями улиц, я попадаю в знакомое, когда включаются магниты ближайших станций метро и схемы уже пройденных маршрутов. я ведь знаю, что впереди Таганка и дом Шурика Щиголя, другого одноклассника и однорокгруппника, израильтянина нынешнего… поэтому надо уйти левее, вниз.
Первый Крутицкий переулок подкручивает интерес: сколько ещё невиданных мной ситуаций сожительства домов десятилетиями! кажется, в каждом дворе я бы мог жить и каждый день видеть незыблемую композицию, положение стен. однако по закону прохожего я не смею остановиться, нет видимого повода – разве что завязать шнурки, чтобы сильнее ощутить запах осени… влажные тенистые кварталы – её тут больше. а выхожу на перекрёсток – так солнце по-летнему встречает. и снова бензоколонка – в неудобном месте, откуда мне надо перебежать улицу, чтоб оказаться ближе к мосту с другой стороны. пересиливая осторожность пешехода тянет к себе таинственный серый дом – о, в нём могла бы жить, наверное, та, ради которой приезжал бы сюда каждый день!.. выждав затишье в потоке машин – перебегаю, критикуя свою минутную доверчивость осени, ведь тут даже жарко, где асфальт и нет симбиоза жилых домов с деревьями…
хотя, и серый дом окружён буйной, лишь местами пожелтевшей лиственностью – дом потому так и романтичен, несмотря на хмурость, что выглядит заброшенным. одно высокое окно второго этажа закрыто наполовину фанерой. разные тут живут судьбы – кто-то и из околовокзальных, может, приходит вечерять, проспиртовывать стенной сталинизм… все девяностые спивавшаяся династия, отворившая в свободу свою квартиру, и ждущая ежедневно самых разных гостей. под листвой возле готичноватого этого дома приятно укрыться от солнца, уже закатного, но сильного. все дома эпохи кажутся мне родными с тех пор, как мы пытались разменяться и уехать с Каретного – предлагали только этого поколения, тридцатых-пятидесятых, по тем временам элитные стены.
там справа – длинный пруд, помню, как-то догулял сюда от Котельнической (в предэкзаменационном измождении, в начале девяностых). поэтому идти надо налево, к мосту Новоспасскому, всё тут Новоспасское, в честь монастыря. по переходу Т-образного скрещения проезжих частей набережной и вдольмостового проезда, где на тебя несутся со всех сторон – умудряюсь перебежать, и не сбавляя темпов шагать по лестнице на мост, сбоку. морская эстетика-романтика – в отделке моста. да: за Павелецким вокзалом начинается портовая жизнь, и где-то здесь же завершается маршрут речных трамвайчиков.
вон они, кстати, тут и поворачивают – словно чайки на морском берегу белеют кучкой под стенами ещё отчасти индустриальной, но больше музыкальной группы строений: краснокаменный Дом музыки напротивКраснохолмской набережной тычет карандашом своим в закатное небо.
так вот где кончается Водоотводный канал, втекая обратно в Москву-реку! я – прибывающий в город таким нежданным маршрутом москвич, – к вокзалам, к центру, к Садовому Кольцу… в свежую желтизну деревьев, выглядывающих из привокзальных дворов, к этим школам и складам, к административным зданиям, знакомо-незнакомым, к нелепой стеклянно-металлической башне с присевшей на неё летающей тарелкой.
год начинается, время Столицы, вечер намечается, и я влетаю в него с высоты моста, по дуге, справа приветствует и немного слепит вполне бодрое, хоть и клонящееся к горизонту солнце. слева за мостом с берега манит зелёными изразцами тоже дом годов пятидесятых, ровесник серого, но туда я не ходок, это для следующего маршрута.
с моста, сбежав по лестнице, затем долгим асфальтовым спуском, часть которого взломали и ремонтируют – иду, оглядываясь на коварные машины, к другому мосту, направо. роллеры меня обгоняют. пока тут ходишь, напечёшься даже закатным, слабеющим солнцем. пройти под автомобильным мостом можно только долгим мрачным набережным коридором вместе с Водоотводным каналом: он на выход, ты на вход. где пролетели в две секунды роллеры – мне идти пару минут, палые листья туда завлекают сквозняком…
но кто бы мог подумать, что южный вход в Столицу именно здесь? неформальные ворота – кажется, что я сюда перешагнул из самого начала девяностых, когда только узнавал Столицу шагами-взглядами. тоннель немного похож на аналогичный коридор под Новой Басманной улицей, только значительно длиннее, целый закоулок, тут ночевать можно. правда, подмостовой проход, как тоже печать переходного времени, загажен – назад в девяностые! но и в этом знакомо-человеческое, вокзальное. так, кажется, должны пахнуть и закутки под парижскими мостами – жаль, не могу сравнить, не был. в Москву Бомжовую, Москву Товарную, Вокзально-девяностую – сюда. это не только людей, это и запах города неотъемлемый, в сочетании с речным – самое то, клоака! ненависть к зловонным соплеменникам и одновременно понимание вынужденного использования этого пространства в отсутствие работающих бесплатных туалетов – тоже черта современности. бумажки-подтирки, зелёностекольные и коричневые бутылки, битые и целые, обёртки мороженого, флаеры магазинов и рок-концертов…
Шлюзовая набережная – всё в точности, портово-вокзальный участок реки мной встречен своевременно. я возвращаюсь по-настоящему, не на метро. сперва жёлтые фабричные стены, затем мрачно-гостиничные окна. и сюда втиснулось новое время: громоздкие дорогие авто сообщают, что тут центр кап-цивилизации, респектабельные шофёры ждут господ, покуривая, послушивая Love-радио в запахе натруженной за день езды кожи салонов…
здесь непривычны к пешеходам, тут только автопассажиры и их извозчики – а я вот пробегаю незатейливо, и само это сквозное движение будто опровергает иерархию, буржуазную стабильность… теперь мне всё знакомо – и мост к Дому музыки справа, и конструктивистский угловой дом автосервисов впереди слева, и уж, тем более, подземный переход на внутреннюю сторону Садового Кольца прямо по курсу. всегда возвращаясь территориально, возвращаешься и во времени: всё больше виданного тобой в прежние годы. здесь я специально проезжал в девяностом осенью и девяносто первой весной, чтоб поразглядывать дома и, наконец-то, замкнуть своё Кольцо – садился то на одну его сторону, то на другую в троллейбусы «Б» и десятый, после репетиций дома у рок-одноклассника, Шурика Щиголя…
кафельный подземный переход нисколько не прохладен, в отличие от входного тоннеля в начале Шлюзовой набережной – слишком много тут за день проносит прохожих свой жар. я выхожу к Татарской улице – тут уже между девятиэтажками мелькает знаменательная хрущоба, в которой недолго, но великолепно находили приют на верхнем этаже с правым торцевым окном наши с журналисткой Ксенией Веретinkoff страсти прошлого столетия, в самом его конце. именно в эту сторону, к Павелецкому вокзалу, выглядывал я в вечернее окно, привстав с Ксю, утомлённой долгим моим в неё наступлением.
длинная Ксюшина хрущоба пропускает быстро – прошлое выскальзывает из взгляда. и тянет меня на набережную, то есть на этот раз правее. сплетается сумрак, он кажется серым туманом в закоулках. или это уже зрение устаёт? кажется, что весь день устал – сужу даже по прохожим парочкам, нет в них стремления, инерция одна. даже красивый мостик через канал их не вдохновляет…
Озерковская набережная действительно хмурая, в ней собралась усталость жаркого сентябрьского дня, сгустилась у воды. ощущаю усталость и я внезапно: осознаю, что пеший путь домой пройден лишь наполовину, и догоняющие меня сумерки, кажется, придавливают. спешащие навстречу нагретые красные и цвЕта «металлик» машины тоже напоминают, что стоит спешить домой. в машинах курят, думая, что так отдыхают… гляжу на мобильный, на часы – нет, я лишь сорок минут иду, ещё чуть больше, и буду дома. да и мост, по которому грохочут от Новокузнецкой к Котельнической трамваи – уже вырисовывается в сумерках.
вот уже места моей газетной работы начала нулевых – справа гармоничный «речной» конструктивистский домик с круглыми окнами по бокам от входа, учебное какое-то учреждение, отсюда не разглядеть таблички. слева узнаваемы лишь окна серого панельного общежития-башни – своим анархизмом убранства, где фанерой, где фольгой, где одеялом на окнах… а дальше вместо двухэтажного дома девятнадцатого на вид века – махина заглянцевЕла. из-под неё я и выныриваю направо, на мост, где каждый люк и ухаб мне знакомы. люки, однако, поменяли – уже не читается знакомый «ТСОД»…
два пешеходных перехода – и я на Устьинском мосту. кажется, удалось убежать от сумерек, обогнать их наплыв из Замоскворечья на несколько минут. знакомо и из девяностых тут многое – даже восклицательный знак (в виде которого отсыпалась краска на торце сталинского дома слева, за пустырём). я поднимаюсь по мосту всё выше, через усталость, и понимаю, какую величественную работу совершаю – справа окрыляет высотка, слева – виднеется Кремль. и всё ближе к середине моста и всё яснее, откуда катится вечер. я добрался до своего колеса обозрения, завис над временем, чтобы обрести эту столичную ясность, этот потрясающий масштабами обзор круглых небес, гигантского купола Столицы.
за Курским вокзалом – вот оттуда растёт синий, тёмно-синий, фиолетовый сумрак. а солнце со своим закатом в редких облачках ещё малиново лучится на Юго-Западе, в тупике «красной» ветки метро, у Университета, за Замоскворечьем. солнце и ночь встретились вечером во мне на мосту. оттуда же, вместе с дождевыми облаками, из-за Курского, вниз по Яузе к Москве идёт зима, идут все безнебЕсные дни, которые накроют столицу через пару месяцев. зимнее ватное одеяло…
не просто вечер: густая ночь уже виднеется там, за высоткой, и что-то светлее заката ещё плещется слева, за Кремлём, МИДом и Киевским вокзалом. я настиг своё время, увидел его движение с той небесной достоверностью, о которой даже не догадывался. благодаря отсутствию облаков и вечернему часу, я обнаружил эти гигантские часы Столицы с циферблатом вокзалов на Садовом Кольце, и на которых Устьинский мост – часовая стрелка.
впереди предстоит ещё длинный, но недолгий путь, дома ждёт мама и уже нет бабушки. я пройду по Солянке мимо Опекунского дома, где работал, куда ездил в экипаже бабушкин отец Василий Былеев-Успенский, я пройду мимо синагоги, по Большому Златоустинскому переулку, мимо дверей Лубянки, к Трубной площади… я вместе с сумерками прошагаю этот путь, как делал все девяностые, но быстрее – потому что увидел главное. узнал, откуда катит вечер, увидел сверху, как птица – середину меж закатом и ночью, нашёл биссектрису в треугольнике света, тьмы и дома. вычислил за Китай-городом края произрастания своего дома, где ждёт ужин и диванный уют для пешехода. собрания не было, зато снова была Поэма Столицы. куда б здесь ни шагал, я прошагиваю её ритмы и строки.