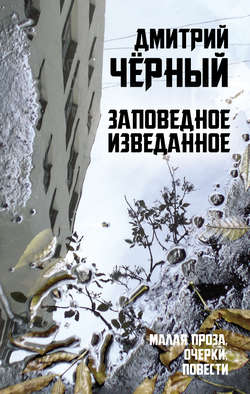Читать книгу Заповедное изведанное - Дмитрий Чёрный - Страница 4
Рассказы, очерки, зарисовки
Крайнее лето детства
(рассказ)
Оглавлениеслишком долго и давно я собирался посетить Сергея по-соседски. да и, признаем, он сам всё путешествовал, либо же оставался в Москве по делам, а потом я торчал там из-за ремонта. в общем, лишь к окончанию лета мы совпали: с утра и я один на даче завтракаю (кот мой всё не появляется), и он – у себя…
есть у меня не то, чтоб суеверие, но ощущение-подозрение какого-то ритма жизненного, в соответствии, в такт с которым позвонить лучше не до, а после завтрака, помыв посуду. набравшись сил и ощутив свободу, а также пустоту родного помещения и перспективу писательского дня у ноутбука, если никуда не поеду, нахожу букву «Ш», он там первый в списке абонентов (потому что вторая буква «А»), нажимаю зелёную трубочку слева…
– Салют!
– Приветствую, дружище!
– Ну что – я к тебе или ты ко мне?
– Давай… лучше ты ко мне, мы как раз тут с Ваней гуляем.
– Тогда я кручу педали, как буду поближе – наберу.
– Жду, дорогой!
приторочив на багажник журнал «Москва» трёхлетней давности с мужской строгой статьёй про коллегу, вытаскиваю из кирпичного сарая свою зелёную «Украину», модернизированную татарбайтерами (мягкое седло: пока брусовый дом нам строили, я им оба велика дал в пользование). парадокс кирпичности сарая и древесности дома разрешается только исторически: однокомнатный сарай с туалетом пристроенным, в полкирпича, сложен на мамины сбережения накануне дефолта, а дом уже в серёдке нулевых на наши общие. в этой кирпичной прохладе, ведь солнцем прогревается сараюшка лишь к вечеру, я и начинал писать «Поэму Столицы» и первые левацкие статьи. колёса велосипеда, будто на цыпочках, иногда действительно приподымаясь, осторожно следуют меж малин, флоксов и уже почти готовых к первому сентября гладиолусов – чтоб никого не обидеть, не сломать, по плиткам дорожки к калитке… кстати, два слова появились в моём детском лексиконе одновременно и до сих пор звучат родственно: «калитка» и «Калистово», это следующая от Москвы станция, где мы снимали раньше, пока не обзавелись своей дачей, точнее, четвертинкой дома на двух сотках. мой нынешний путь – наоборот, назад, к столице…
ну что вы, глупые кошки? как всегда тусуются у нас на участке, а моего-то чёрного и нет гостеприимца, загулял. уже скоро неделя… не нужны ему здешние, доступные – ему каких-то далёких подавай, в его немолодые годы. а здешние как народят своих серых котят – так весь кошачий табор живёт на крыльце (укрытие от дождя). мой благородный хозяин дома, выходя после завтрака или обеда – осторожно, на цыпочках своих беленьких «туфелек» сбегает чернолапо, огибает котят. недовольно бурчит своё «ммяк-мЯк-мрр», но негромко, как бы только нам жалуясь, выговаривая за излишнюю толерантность, котят самих не пугая. они же по дорожке иногда скачут к нему – не папа, но всё равно, поиграть хочется с большим дядей…
защёлкиваю калитку, въезжаю с мостика вверх на пустую глинистую дорогу, гляжу направо… нет, прокачусь уж я подольше, в объезд, налево. заодно и котейка своего повыглядываю, позову – в период кошачьей озабоченности он может и не отзываться. был случай, мы уже машину родни, Комиссаровых, загрузили, усадили бабушку, чтоб уезжать – а его всё не было, вон там справа у Зуйковых где-то заседал в женской компании в кустах, и вышел случайно, в последний момент, тут и сгрябсили сразу, и поехали. а так – готовы были даже вернуться специально потом на электричке, чтоб догулял, дожидаться тут…
приятно скорость набирать на повороте и на взлёте: топография хулиганского детства, изрядно уже застроенная, всё же обвевает вневременным, здесь каменисто пахнущим ветерком. справа «стройка» – которая вовсе не стройка, а территория, странно совмещающая пожарный пруд, общежития Горного института, его экс-столовую, превращённую в магазин, и лесопилку (ещё там было кладбище крупногабаритной стройтехники – автокранов, самосвалов с нагретыми солнцем кузовами, в которых мы курили и предавались подростковым стыдным и познавательным грешкам). слева улица, на которой стоит поискать моего нестареющего кота-грешника. еду неспешно, просматривая справа и слева кусты, канавы, даже за заборы заглядывая, где не сплошные… умеют прятаться они в свой брачный период, только поесть забегают, да и есть перестают – страсть-котопорождЕние вытесняет прочие витальные мотивы, включая самосохранение.
уж дальше перелеска он точно не ушёл бы. вот загулял бесёнок – седина в ребро! у него она не только «пробила» черноту на голове, но и повсеместно украсила, подчеркнула благородство полусиамское… еду подростковыми тропинками по корням и лужам к поликлинике наискосок, с тылу… в этом рукотворном квадратном лесочке был развеян миф о непобедимости Зуйка – местного хулигана. он давно терроризировал Димона, моего друга, и нашу всю компанию считал слабаками, трусливыми дачниками. тощий, конопатый, узкоглазый и с зайковато торчащими зубами, был он длиннорук и нагл не по годам. стрелял сигареты, иногда классические двадцать копеек, но всякий раз искал повод доказать своё территориальное первенство: местный! Димон хитро канализировал агрессию Зуйка в моторазговоры, это их сближало, однако Зуёк мог при этом запросто отвесить и ему, и нам сайку или пендель, даже в плечо двинуть, задиристо кивнуть «чё» заячьими зубами в ожидании драки, пытался поймать «на слабо», и всегда уходил победителем. а время-то наставало уже недетское, мы завели знакомства в товариществе «Рассвет» с острогрудой Таней и красивоглазой евреечкой Светой, и побаивались опозориться пред ними в случае встречи с Зуйком, у которого имелся брат постарше, но и поспокойнее. правда, это не сулило нам спокойствия. всякий раз сидя с рассветницами в поле за Даниловкой, кто-то из Димонов работал дозорным, пока другой невинно, дружески обнимал – русый Димон черноглазую брюнетку Светку, а я кудряво-русую Таню с игрушечными ямочками на щеках, приголубить всё не решался… естественно, приглашение дам в кино было единственным культурным досугом помимо лесных и полевых прогулок в неизвестных пока всем нам целях. в кино можно так трогательно подержаться за руки! и пробудить неимоверные надежды. но всё портит Зуёк: на вечерний сеанс ходит вся ашукинская молодёжь, и уж тут не миновать встречи. мы даже стали смотреть пораньше, выбирать дневные сеансы, чтоб не пересекаться – однако девчата днём не склонялись смотреть кино, как-то немодно. и ожидаемое случилось: Зуйки сверху стали в нас плеваться обжёвками голубых билетиков ещё в зале, снижая пафос драмы «Меня зовут Арлекино». мы перевели дам на непростреливаемые места, однако конца сеанса ожидали с ужасом. с нами был и Пашка – высокий, тощий горожанин, тоже дачник, нас немного постарше, обаятельный потомственный интеллигент, папа его, кажется, математик. Пашка напоминал доктора Борменталя из экранизации «Собачьего сердца», в юности…
едва досмотрев, как Арлекино бессильно ревёт над своей изнасилованной возлюбленной, мы поспешили эвакуировать дам через запасной выход, который всегда открывали, чтобы более многочисленные посетители следующего, последнего сеанса, уже повзрослее и поразвратнее, не сталкивались с теми, кого в десять загонят спать. по вполне ещё светлому вечеру мы зашагали вниз к речушке, однако оторвались от Зуйков не так уж далече. напоминая кенгуру, младший Зуёк поскакал к нам по асфальтовой дорожке, под гору. приобнял Димона и, как бы говоря с ним о чём-то интимном, увёл вперёд, отвесил лёгкий профилактический вподдых. Димон ему глупо, улыбчиво подыгрывал. этим моментом мы воспользовались, мгновенно посовещались, и я увёл рассветниц к памятнику ашукинцам-фронтовикам, к станции. впрочем, убедившись, что они в безопасности под охраной серебристого солдата, указывающего тяжёлой ладонью на Москву, – я поспешил вернуться к товарищам. за это время компания врагов и друзей дошла до аптеки, и перебранка уже шла на расстоянии: Зуйки пошли дальше по шоссе, и Пашка им пригрозил загорелым кулаком, на что младший демонстративно навесом сплюнул через заячьи резцы, зная что расстояние безопасное.
проезжаю сейчас как раз ту краснокирпичную поликлинику, возле которой, видимо, Зуёк и решил снова атаковать, нагнать нас – ему явно льстило, что они вдвоём с братом так пугают троих дачников и одного местного безвольного рыжего толстячка… а мы, пока шли своей тропой возле дач, бурно совещались: продолжать терпеть или всё же пойти контратакой? Пашка был уверенно за бой, лишь на мои дипломатические аргументы отвлекался-сомневался слегка. да, это война на всё лето, но честь и внимание дам дороже. решили, если ещё Зуёк возникнет, бросимся все, нас же по двое на каждого Зуйка, уж справимся… но не потребовалось. в перелеске Зуёк снова зашагал в нашу сторону, тут-то Пашка и остановил его. тот пытался пробиться к Димону – мол, дело это только наше. но Пашка, всё прекрасно понимая, просто сложил его пополам коротким ударом под дых – «зуб за зуб». Зуёк попытался помахаться на расстоянии вытянутой руки, ноги… но был немедленно сбит с ног, и вот уже сидя на враге верхом в своей интеллигентской клетчатой рубашке-поло, Пашка набрасывал ему короткие удары по хитрым скулам, почти как пощёчины: «Будешь к нам лезть ещё?» – «Буду…» – «Будешь?!» – «Не буду.» – «Клянись, что и к Димону!..» – «Не буду».
краснощёкий скорее от позора, нежели от побоев, непривычно молчаливый Зуёк зашагал, как драный кот, к брату, который проявил мужество и благородство старшего, стоял и курил на дороге спокойно: бой один на один это святое, третий не лезь… да и весовые категории одинаковые. с тех пор мы вообще перестали видеть младшего Зуйка, в следующем веке он женился, свадьба под гармонь та гремела на пол-Ашукино, потом запьянствовал, а спустя год разбился на мотоцикле. старший брат пересел с «Урала» с коляской на «Ниву», женился на вдове брата и продолжил мужской род, довоспитывая и племянника – видимо, молодой криминальный ген (исправившегося, ставшего народным скульптором) деда достался только младшему. и мне кажется, что сыновья от братьев-отцов в точности повторят их собственную диалектику характеров: хилый хулиган и сильный тихоня.
Ашукино стоит на пятидесятом километре, и основано когда криминальный и прочий асоциальный элемент высылали не за сто первый, а сюда… об этом (без криминальных подробностей, просто о поселковом юбилее) сообщал красный транспарант в кинотеатре: «1946–1986», сорокет, и все ссыльные вполне перевоспитаны, социализированы. работают общественная, со школу размером, баня, кино, колхоз, кукуруза в полях, магазины-кооперативы, школа, молокозавод в Мураново. победа социализма в районном масштабе… теперь и баня переросла в чей-то личный дом, который стал казаться меньше под новой тёмной крышей, и в кинотеатре – автосервис. а за ним особняк с каминной трубой, общественные угодья отделил забор, и на склон, где мы поспешали от Зуйков, – с бесстыдством частного собственничества вывалены подробности быта нового хозяина «Восхода» – может, киномеханика это дощатый туалет? назовёт он автосервис «Закатом» или нет?
я потихоньку выезжаю по ровному асфальту, по улице Гагарина из родного посёлка. загогулина за мостом налево, в сторону Софрино тут – это вполне эпохальная загогулина, улицу Гагарина сменяет… улица патриарха Пимена, при котором (брежневские времена) этот «свечной заводик» Московской патриархии и открыли. но название улицы недавнее, как и ограда нейтральной полосы, меж дорогой и заводом, где собирали грибы все желающие – а за оградой псы, видимо, окроплённые святой водицею. волкодавы следят, чтоб нехристи не посягали на святость частной собственности, и вышечка имеется вполне в стиле умучившего немало батюшек ГУЛАГа… почему-то в СССР этого (ни собак, ни вышек) не требовалось, впрочем, и места завод церковной утвари занимал поменьше, и дацзыбао «Русь святая, храни веру православную!» так навязчиво не агитировал всех пассажиров электричек. кормящий РПЦ и церковного олигарха Пархаева да банк его «Пушкино», завод разросся неимоверно, как роль религий и церкви в государстве. а в перестроечные годики мы там на помойке набирали себе алюминиевых крестиков – думали, косухи отделаем как истинные металлисты.
вот тут кручу быстрей педали – всё это раззолоченное, жаркое безобразие, хоть и без лая сторожевых псов, но чем-то отпугивает – столько «лежачих полицейских» тут налепили асфальтовых, что проще съехать на автостоянку и оттуда уже пешей дорогой – к запасному пути электричек. специальную платформу сделали «Софрино-пром», чтоб заводчане поближе подъезжали, но теперь у них личные авто, Русь-то не подводит, хранит православную… а я на ту сторону, взяв за руль и за шиворот свой «ММВЗ» – так его зовут по инициалам, мой зелёный вел. «Украина» – это просто типаж, так сказать…
обычно индустриально-железнодорожный пейзаж этот мы видим с поезда, проезжать его медленно и низко как-то непривычно… тут было и училище машинистов, вроде бы, Софрино ведь узловая станция, помимо церковной и колбасной славы, утвердившейся уже в девяностых. следующая в противоположном моему направлении, назад к даче, электричка навевает тревогу – причём уже в каком-то окончательном виде. и солнце в глаза… где же мой котеец? с этой насыпи, что проезжаю возвышенно, в этих краях не увидеть? под этим солнцем, словно притянутым электричкой – нигде он не сидит в кустах, время?..
проехав пешеходной тропинкой под кустами и затем по проезжей меж фурами к знакомым продуктовым зонам Софрино, сворачиваю налево среди пешеходов, ныряю к мосту осторожно, тут узко, а потом пытаюсь инерцию использовать чтоб заехать на горку. чтобы повернуть тут в сторону колбасного завода придётся по пешеходному переходу ехать, ждать…
и вот, разгоняюсь по длиннющей улице Ленина, пересекающей шоссе, которое ведёт на ту сторону – как раз к нашей родне, к Комиссаровым. сперва копчёностями пахнул небольшой колбасный, затем пылью выезжающего «камаза» обдал плиточный завод… затем настала лесная зона, дач практически не видно за хвойными укрытиями, зато комары имеются…
протолкнулся сквозь очередь фур и бензовозов, выстроившихся к переезду – тут уже начинается посёлок Сорок третий километр. мы проезжали его здесь же, пацанами, на велосипедах, и однажды на мопеде вдвоём: у нас была сверхзадача навестить отца того самого Димона, которого бивал Зуёк…он обитал с другой семьёй в Зеленоградской, прибалтийский такой, степенный художник, на большой, старинной, витиевато застеклённой террасе-«фонаре». визит Димона к нему был неожиданным, так что биологический отец не смог ничем угостить, говорил сдержанно, популистски хвалил мне сына, зато Сальников, мой старший тёзка, был несказанно рад видеть подлинного папашу, прямо искрился, ведь жил-то с отчимом, о чём компании нашей не говорил до сих пор. пробыли в гостях недолго, этикет семейной жизни папы-прибалта не позволял, потом задумчиво, осенне как-то покурили у калитки большого заросшего участка-склона. назад возвращались мы, укатывая в лес всякий раз от прямой видимости электричек: Димон боялся, что возвращающаяся с работы мать увидит знакомый рыжий бензобак в окно и догадается, куда мы ездили на его «Дельте». всё та же безотцовщина моего поколения… но сколько рискового романтизма и мужской солидарности в этом подростковом рейде!..
дома тут уже от сорокового и больше – улица Ленина почти как по десятилетиям советским пролегает. звоню Сергею, в надежде, что уже близко подъехал – однако он советует поехать к станции и оттуда по прямой. то есть ещё катить-то порядочно. въехал с усилиями устающего ещё на одну горку, а на спуске – свернул направо, к железной дороге. почему-то вспомнил, въезжая в здешнюю благоустроенную дачность сперва набоковского Гумберта, тоже велосипедно колесившего по университетским кварталам, а затем и вовсе вообразил беспечного Генри Миллера из «Генри и Джун». писательское братство подсказывает образы при сближении…
церковь белокаменная строится в лесочке у станции – уж не Серёгин ли отец инициатор? спуск к платформе обнаруживается быстро, с первым же просветом в леске. я качу по насыпи над нею, над пустой, безлюдной и ещё летней, залитой щедро солнечным теплом платформой. бабочка «тигровый глаз» на тропинке разлеглась: то ли своей смертью полегла, то ли просто задумалась, так что лучше объехать. каменная могилка за станцией напоминает об опасностях железной дороги, которые предрекали нам советские железные плакаты на каждой станции… теперь их поубавилось, зато немыслимые прежде захоронения (или только надгробия?) в местах прохождения и скопления живых – появились. прибавилось мертвецов, прибавилось церквей. по ту сторону рельсовых путей, за лесом, в одном из дачных ведомственных посёлков за собственным забором – своё лето доживают Комиссаровы, которых мы давно собирались навестить, но сейчас у меня приоритет иной. ехать по улице из трёх букв, аббревиатура это чего-то экономического, торгового, говорил Сергей…
а вот и он сам – в глубине лиственной аллеи у поляны, вдали, движется пока лишь подсвеченным силуэтом со своим сынишкой. Серёга как всегда в великоватой или кажущейся таковой на его плечах светлой рубахе, рулит рогатым рулём велика системы «Кама». педалирует в развалку, непривычный к этому велосипеду. конечно, это именно они, отец и сын, я не ошибся в выборе направления. весело ускоряюсь, проезжаю скромные, чаще деревянные дома и террасы международно-торговых работников или их потомков, скорее. и вот уже я замечен, мы едем навстречу: зелёный мой и бордовый их велики. забавно он руль держит – будто плуг…
– Здаррова! Знакомьтесь, Иван, Дмитрий…
видимся впервые, поэтому и Ваня, вполне самостоятельный и затейливый уже дошкольник, разглядывает меня с интересом и задором, и я высматриваю в нём баланс Аниного и отцовского. веснушек, кстати, я не замечал на родительских лицах ни разу, а тут имеются. всё-таки в мальчонке больше мамы пока – мягкости, округлости щёчек, задумчивости. вот мы уже вместе катимся вокруг детской площадки, минуя выгороженную помойку, а он шагает рядом и говорит, как бы рассуждая про себя:
– Нет, папа теперь уже дворником не работает, мой папа поэт, он пишет стихи, у него книга вышла…
эту тему он взял из нашей рабочей переброски фразами, добавил мамину интонацию, донёс далёкую реплику: возможно, так она ему и объясняла, как отвечать на вопросы о папе в детсаду… недавно вышедшая книга главный источник для меня знаний о сыне, там много переживаний, связанных с Ваней. всё это в далёкой зиме и подальше к Москве – в Пушкино, в морозах, в больнице по ту сторону железнодорожного полотна, где и моей маме сломанную руку чинили позапрошлым летом, а Ваня со своей мамой вместе лежал, болел… мы катимся то против часовой стрелки, то наоборот вокруг площадки, бойко говорим, устраиваем перегонки, но в какой-то момент, снова проезжая помойку замечаем, что отвалилась деталь от бордового велосипеда.
начинаем совместные поиски – сначала тем же путём, потом наоборот, чтоб незамыленным глазом. когда отец и сын утомились и уселись на детской площадке, я один продолжил поиски и, слыша за спиной проезжающую электричку, поймал себя на дежавю. точнее – на должном, на том занятии, которое прежде всего, надо же Басю искать, кота разыскивать, где ж он… вот, выходит, и тут я его ищу, словно то же действие, что полагалось по месту жительства, началось в определённое время, пока светло, но там, где я оказался, как по часам. голову нагнул над рулём при медленной езде, и просматриваю каждую травинку… нет, ни гайки, ни детальки не нашли мы. я припарковался к отдыхающим. вдруг жена позвонила из далёкой Сибири, я тут же ей перезвонил, и мы радостно пообщались: передал привет Сергея и беглый портрет Вани. а женушка – восторги тёщи по поводу главы из последней книги, где отрок Сергий работал алтарником при батюшке…
настало время отвести сына домой – и дом оказался рядом, у площадки. Сергей, пропуская вперёд будущее поколение, проинструктировал меня негромко:
– Дома и отец и мама, так что ты, сам понимаешь, уж чего-то такого ярого не высказывай…
– Мы опытные шпиёны, буду тих и спокоен.
пока Сергей снимал в узком предбаннике свои неизменно остроносые ботинки, я успел ощутить почти абрамцевский уют террасы. Иван устроился смотреть мультики и играть на вполне персидском на вид ковре в большой комнате наподобие гостиной (с древним киотом), а нас матушка писателя пригласила откушать котлеток и испить чайку на широкой деревянностенной, как у нас и у многих по нашему направлению, кухне.
– М-мм, великолепные котлеты!
– Спасибо, Дима, сама тут готовлю…
– У нас в Ашукино в бывшем кафе «Ёлочка» хороший мясной открылся…
– Знаю-знаю, часто там покупаю. Вы берите ещё, и помидорчик…
– Всё-таки как назвать роман решишь?
– Облом: вариант, что ты предлагал и сам хотел, забит. Так у Гюго роман называется…
– Именно роман, не повесть, точно?
– К сожалению…
– Может, девять-девять-три?
– Да тоже самое, и непонятнее…
подкрепившись на финал сладким и крепким чаем, мы взяли велики и устремились уже вдвоём, по-взрослому, почти наперегонки – тем же параллельным и близким к железной дороге коридорчиком вдоль деревьев и высоких глухих заборов, что когда-то с Димоном мы ехали к его биологическому отцу. диалог ускорился сообразно движениям и кровообращению: о книге уже вышедшей его и о моей готовящейся…
– Если ОГИ возьмёт – хорошо, солидно…
– Да всё неспешно как-то у них, впрочем, за это время я подредактировал, выкинул добрую треть – оставил её для продолжения Поэмы и отдал печатать журнально…
– Всё же будут рассказы или роман?
– Роман, так лучше и теме роднее…
понимаем друг друга с полуслова, как старые дачные друзья. загогулины нашего пути и разговора застают меня врасплох: тут не ориентируюсь, Сергей уже показывает прежние участки, где обитал, а напротив – было поле… в Калистово у нас тоже самое, половину поля железно отгородили, коттеджи под ключ строят. везде дачная экспансия, а колхозов, полей, комбайнов – и след простыл… даже бывшую дачу разухабистой Гали Брежневой покирпичнее перестроили и обуржуазили глухой, почти кремлёвской стеной какие-то нынешние госохранники (как и участок Суслова на полную элитность обихаживает Шувалов вдали отсюда). пока мы колесим, словно дети, и темы открываются прежние – лесные страхи, комары, собаки. Сергей их, прямо как композитор Кравцов (студенческий друг мой, правнук психолога Выготского), побаивается люто. о псах заговорили – и на них напоролись, когда поехали вдоль леса, завершающего посёлок – впрочем, гуляли обе собаки с хозяином, но мы припустили обратно, а я даже ноги на руль закинул, как в былые годы, потешно… юный даже в отцовстве своём новреализм… развеселились, разогнались, автоматически поехали к дому, но потом как-то так заплутали, что постепенно стали возникать кварталы городского типа и перекрёстки со светофорами – это хозяин местности залучил меня в Зеленоградскую каким-то тайным лазом…
впрочем, ничего удивительного: не дружившие тогда, мы сейчас навёрстываем колёсно своё детство, почти как с Димоном, ныне открывшим свой автосервис на Петровско-Разумовской. были и у Серёги друзья, пошедшие не в творчество, а, напротив, в бандосы – мы, пишущие с той натуры восьмидесятых, выпадаем не на каждую дачную компанию… а из дачных компаний далеко не все живы – «на любом подмосковном кладбище их целые аллеи, молодых, улыбающихся», как рэпЕл Вис Виталис, и верно, при дорогих постаментах с выгравированными крестами и годах смерти девяностых, они и в заашукинском поле, в кладбищенском лесу.
жмём наперегонки, и мелькают темы разговоров – о жёнах (он – в прошедшем времени, я – только вступивший на этот путь), о том, что я-то работаю на прежнем месте, держусь, а Сергея с «Маяка» уволили за революционность. останавливаемся передохнуть в лесочке у стелы памяти зеленоградских комсомольцев, ушедших на фронт. хмурое, хвойно заросшее место, солнце едва пробивается, выдохлось, пошло к закату. мы ощущаем себя пацанами, укатившими подальше от родителей, и не хватает только достать из тайника тут где-нибудь (у нас был под плитой заросшего порога запасного выхода той самой поликлиники) – пачку «Космоса» или «АС», закурить, оглядываясь чтоб не было взрослых прохожих… Сергей приблизился к стеле, читает героическую вводную и фамилии в упор – может показаться, что читает с издёвкой, с прищуром. ибо всё это богатство-наследство молодонаглейцы у нас упёрли, буквы подзолАчивают во славу своих синих, белых и в самую последнюю очередь красных знамён… а меня вдруг потянуло домой.
и тут же мама позвонила: садится в электричку, через час чтоб быть. я сообщил, где мы с Сергеем, была мысль сесть прямо в её поезд тут или на сорок третьем, но решили что просто поеду сам, своим порядком… и медленно покатили обратно – теперь все перекрёстки и перегоны кажутся длиннее, постепеннее, уже не перегонки, а повторение, обратное чтение, усталое…
прикатили назад. чтобы поставить велосипеды отдохнуть – снова прошли по бетонной дорожке с хаотичным вкраплением голубых осколков кафеля, изразцово глядящих снизу. около могучей туи я поставил свой вел, подумал что маленький домик дополнительный мог быть тут этаким флигелем для гостей-паломников… вышли втроём с Ваней на площадку, мимо летят уже по частому вечернему графику электрички, напоминая, как обычно я сам из них это место наблюдал, поляну за круглым одноэтажным строением непонятного назначения, годов пятидесятых.
– Раньше тут всё в колючей проволоке было – объект.
– А теперь вон какие шикарные игрушки в песочнице оставляют. Нам такие машинки только в каталогах иностранных встречались…
– Спасибо Ельцину за это, – резюмировал ироничный товарищ.
– Ну, как твои поездки с презентацией, как тираж идёт?
– Книга продаётся хорошо, почти весь тираж ушёл, говорят. Ну и в библиотеках, в поездках было весело. Да всё классно!
Сергей, по-деловому улыбнувшись на начальный закат, почесал под розовой рубашкой смуглое молодое пузо – скорее, подростково-впалое, нежели взрослое, отцовское. его длиннорукая привязанность к движениям, перемещениям сына по площадке – понятна и священна. устремлённость взгляда через очки-лекторы в мир следующего поколения не прерывает мыслей и разговоров нашего. интеллигентна его озабоченность – одним словом. в этой необременённости что-то проглядывает архетипическое – и сразу мне вспоминается незнакомый Сергею, из другой литературности Филипп, как сам он расшифровывал своё имя, «любитель лошадей». Минлос, давно и уже дважды отведавший отцовство… именно его домашние интонации, адресованные детям, ускоренные их ритмами – столь знакомые и значимые в наших разговорах, умные, выводные интонации, – я запечатлел как знак отличия, как веху века. нового, не того, в котором мы вдвоём что-то изрекали, пререкались и предрекали поэзии, року, когда творили в его комнатке с видом и куревом на осень… и вот новый век, новый стиль, новый товарищ с теми же самыми интонациями – и, как ни странно, к этому стилю я имею самое первичное отношение. хотя именно тогда, испив у Минлосов всех густОт интеллигентских московских чаёв, я обособился, и писал в девяносто первой школе свой Манифест радикального реализма весной…
приглядевшись к молодому папаше и требующему внимания сыну, решаю улизнуть, давно уже пора. долго прощаемся, улыбаемся, провожают меня до того же конца тропинки, где я их и увидел впервые… так я усиленно им махал, обернувшись уже на ходу, что съехал с пути, к дачам, остановился даже. а потом уж поднажал на скрипучие педали…
и станцию проехал, на этот раз не безлюдную, и в лесок въехал дальше строящейся церкви теперь, и самозабвенно катился в сторону улицы Ленина, минуя дачные перекрёстки и раздумывая, как вовремя всё-таки навестил коллегу… но тут зазвонил мобильный, достал его из велосипедного «кошелька». это мама, наверное, проезжает тут или уже приехала, с улыбкой я говорю своё «алло»…
– Дима!.. – голос взволнованный, показался мне радостным сперва, неужели кот пришёл?
– Я нашу кошечку нашла… мёртвую.
обман слуха, это был плачущий голос. всё что я понял в этот миг, это что надо как можно скорее оказаться рядом с мамой, сказал «лечу». хотя, как тут перелетишь Софрино? удивил неспешных дачников своим неистовым разгоном. нет, конечно, были такие подозрения, слишком уж долго не возвращался, и представлялись худшие картины: где-нибудь в кювете отдалённом лежит, павший в бою с котом-соперником или собакой загрызенный, и не найти…
и пока в Москве торчал из-за кафельщика, выбрасывал вместе с ним днём, и ночью в одиночку, мешки с обломками старого кафеля – тоже был какой-то слишком уж отчаивающий, говорящий эпизод, который можно счесть сигналом. повёз на телеге тяжеленные два зелёные плетёные мешка на ту сторону Каретного, к Садово-Самотёчной, там у подворотни стоял кузов с аналогичным строительным мусором. и вот, пока ждал у светофора, обратил внимание: идёт и плачет девушка. длинноного, быстро идёт – но заметно, что из-за слёз видит плохо, иногда останавливается, что-то в мобильном тычет. я повёз свою упрямую телегу по «зебре», медленно – быстрее трущиеся о мешок колёса не позволяли. и понял: плачущая девушка в светлом кружеватом одеянии идёт настолько быстрее меня, что даже оклика с моей стороны не услышит. это явно какое-то у неё любовное расстройство, а виновник его, возможно, едет тут медленно по Кольцу на открытом шикарном авто, и тоже размышляет, не вернуть ли. может, это было с её стороны моноспектаклем для него, мерой воздействия. мне хотелось окликнуть её, отпоить дома ароматным чаем – хоть и в строительной пыли кухни… но тяжёлый, как сизифов камень, мой груз – не пускал, буквально не пускал. бросить его и бежать за ней? нет – каждый тут своим занимается… я довёз и забросил, уже сильно за день уставший, мешки в кузов, и успокоил себя: не моя это судьба шествовала, моя (жена) в Сибири, а гуманизма ей, гламурной, чаю моего вряд ли хотелось… но в плаче так отчётливо звучало ощущение несправедливости!.. и яснее мне стала невозможность отрыва отсюда, бегства на дачу и активных поисков Баси. прикованность какая-то, – всё тут зашифровалось. слёзная девушка ушла дальше к Самотёке, а я пошёл назад домой, вспоминая эту встречу почти как картину из сна, по законам сна, когда примерзаешь к земле, не можешь зашагать быстро, куда хочешь. останови, окликни я её тогда – может, всё было бы иначе? проявить доброту («Девушка, я могу вам помочь?») – и зловЕстие отступит на моём направлении?..
время ли суеверным мыслям? еду, не переставая крутить педали, пересекаю автостраду со стоящими в очереди к переезду, гляжу на них, за лобовые стёкла так, что волнение передаётся: «пропустите уж». по лесной, уже софринской части улицы – жму без устали, срывая сердце. каким медленным может оказаться велосипед!
кое-как, обгоняя пешеходов и вынужденно тормозя, миновал и мост, и к станции в гору поднажал – конечно, на электричку надо, каждая минута дорога и тяжела там маме без меня… как раз идёт, светит прожектором от Сорок третьего электричка, успею перебежать все рельсы. но зачем, зачем эта песня именно сейчас?! возле складов звучит спокойно, замедленно, осмысляя закат. словно из тех, восьмидесятых – магазинный, из радиотехнического отдела голос Ротару, нелепо вздыбивший задумчивые строки Тарковского «вот и лето прошло, словно и не бывало…»
вот только не надо этой пораженческой философии, фатализма не надо! «как лист пятипалый» – прямо в ухо весть легла мне, гонит меня весть трагическая. успею даже по платформе на велосипеде проехать к первым вагонам. что-то там пассажиры вычисляют, выбегают – от кондуктора перебегают, конечно же, но у меня на это времени нет. втаскиваю в тамбур велосипед и гляжу в окна двери, подгоняя пейзаж, который так спокойно проезжал в обратном направлении…
– У вас за проезд? – полный парнишка-кондуктор вошёл в тамбур и недоверчиво заглянул.
– Мне только до следующей… У меня кот там погиб, вот вызвали.
– Ну… Если до следующей… Но я проверю.
– Не обману.
взглядом сказал больше, чем словом. еду взаймы и подгоняю поезд навязчивым мотивом из песни Ротару, в недобрый час прилипшей. важные, важные километры – всё ускоренно. через рельсы, вперёд всех пассажиров, соблюдая вежливость и этим усиливая сиротливость свою. пристанционные прогулочные отроческие дорожки – теперь слишком длинными кажутся, пролетаю их на уже сбивающемся одном дыхании за три минуты. и на улице Белинского родимой вижу маму, а она меня пока не видит, всматривается, рядом стоит соседка Галина Павловна, молодец, не оставила в трудный час.
мама накрыла котейку листом лопуха – так что я и не заметил, проезжая. подходим вместе, открываем. открытые любимые глаза светло-зелёные, даже зрачки не расширены – в один миг был сбит. ничего не сломано, не повреждено. просто наподдал неведомый незнакомец своим бампером – и вот он на обочине, в траве, удивлённо-неподвижен. а лежит уж сутки-то точно. маме казалось-надеялось сперва, что, может, живой? просто повреждён?.. настолько живые глаза… как же так – ну, стоили все эти кошки, эти загулы такой беспощадной последней фотографии? щекой уже прилежался к земле, но погиб точно после дождей, сухой, лишь агенты земли жуки выели кое-где чёрную шерсть.
санитарная неприязнь к неживому, даже родному – запах, чужой, предательский дух разложения. от шёрстки, столько раз перецелованной, от обласканной благородной фигурки… бегу домой за подходящей коробкой, перчатками и лопатой – безжалостный, с померкшим летом в глазах. в перчатках резиновых берём, загружаем, несу дорогой груз. соседка-бабуська галпАлна и тут сопровождает. говорит, думала – ваш, не ваш? да и сами как могли не заметить в середине улицы? правда, я приехал вчера в темноте… мимо прошёл, а он уже тут лежал… если б утром поехал в эту сторону, то одного проворота педали хватило б, чтоб найти и дальше уже никуда не ехать. но детство и лето отсрочку дало – на день…
как же ты полегчал, дуралей же ты мой, дуралей!.. мало ел последнюю неделю, но мама накормила курицей в последний раз до отвала. и вот погиб, в ходе любовной войны, сентиментальной неразберихи – ведь задумался же о своей временной избраннице, не испугался даже, не ждал такого удара от людей, когда шёл тут, как хозяин улицы… несём на край поля хоронить – посреди такой душной внезапно жары, на закате. а дети играют посреди улицы, и им невдомёк, да и лучше.
в кустах, уже разросшихся до высоты деревьев, в месте укромном и тенистом – зло, ожесточённо вырываю сухую глинистую землю, рублю её беспощадно, перерубаю глупые корни, ощущая, как разложение родного кота-товарища наступает, подступает, удушает. наш и не наш – вот как это всё понять, эту смертную диалектику? всё менее наш – так точнее, облик тоже меняется, но всё родное ещё узнаётся, однако уже островками, всё менее верится, что это наш божественный Баст, благородный потомок питерского чёрного Кузи и сиамской мамы Симы (Голюшком её ещё нежно звала первая любовь моя Маша, подарившая живой оберег, спутника моей дальнейшей жизни). всё это вместе со сцеплением молекул распадается, ускоренно, в закатном зное. поэтому надо скорее скрыть от глаз, положить в пыльную прохладу земную.
– Ну, достаточно, – сказала мама, и я перестал углублять вырубленный в сухоглинке куб.
подстелили газетку и другой накрыли, спиной вверх положили окоченевшее родное существо, всё менее близкое – потому что эйдос кошачий это гибкость и мягкость. тотчас стали засыпать выкопанными пыльными комьями, сверху прикрыли могилку листом толстой фанеры. пошли домой. конечно, лучше так – самим похоронить, а не гадать, куда делся. у меня самое первое подозрение было – что ушёл уже по старости, подальше от нас, чтоб нас не обременять. погиб мгновенно – может ли это успокаивать нас? не узнал неприятных встреч с врачами, как наш первый, рыжий Кеша, прожил немалую жизнь – четырнадцать. ушёл не дряхлым, а в расцвете сил и желаний, хотя, уже были кое-какие ревматические проблемки… последние разы, как поднимался ко мне на второй этаж, так шёл по кровати, выбирал путь полегче, чтоб не прыгать высоко, разваливался на коленях и балдел, тотчас засыпал в надёжных руках моих, положив в левую ладонь тяжёлую головёшку свою, а я продолжал одной рукой тихонечко печатать на ноутбуке. Басе стук клавиш не нравился: переходил на стол валяться, но после снова уходил – жарковато днём у меня наверху…
сюда он и пришёл сегодня, вспоминаю теперь суеверно, – в утреннем сне, перед пробуждением. видно, так его я ждал, что почти услышал его лапки на лестнице: трюк-трюк, прыг-прыг. словно голограмма, мерцая, он устремился, но не ко мне, а в свой закуток под крышей, где любил поспать после загулов. так явственно во мне успокоительная радость тогда взошла: вот же он, к чему волнения? сейчас отдохнёт, основательно вымоется и уже не пойдёт на новую свиданку, так это всегда и проходило к концу августа…