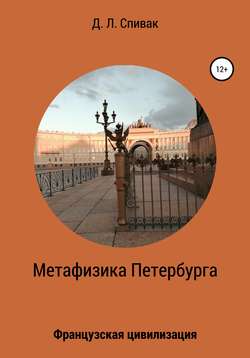Читать книгу Метафизика Петербурга: Французская цивилизация - Дмитрий Леонидович Спивак - Страница 21
Глава II. От короля Людовика XV – до гражданина Луи Капета
Вольтеровский миф о Петре Великом
ОглавлениеПоставив себе задачей содействовать тому, что сейчас называется «благоприятным имиджем в глазах цивилизованных стран», идеологи елизаветинского царствования нашли целесообразным обратиться к наиболее влиятельному писателю своего времени и заказать ему сочинение, представляющее европейской публике исторические задачи, равно как духовные основания «петербургской империи» в самом выгодном свете.
Выбор пал на Вольтера, переданная же снискавшему уже повсеместную известность французскому философу и писателю солидная сумма денег обусловила его безусловное согласие уделить время и силы такому труду. Так появилась «История Российской империи в эпоху Петра Великого», занимающая и поныне заметное место в творческом наследии французского классика.
Вольтер как историк Петра заслужил у нас немало упреков в некотором безразличии к своему предмету и недостаточном знакомстве с материалом. Они, в общем, справедливы. Самым искренним в тексте Истории нам представляются открывающие ее восклицания, где приступающий к своему сочинению историк поражается тому, как в течение каких-то пятидесяти лет, прошедших с начала XVIII столетия, будет просвещена (policé) раскинувшаяся на две тысячи лье, прежде того никому не известная империя, и что в глубине Финского залива (au fond du golfe de Finlande) утвердится блистательный двор (une cour magnifique et polie), влияние которого распространится на всю Европу – не в последнюю очередь, посредством побед ее армий. Действительно, именно так в Париже и думали – впрочем, чаще всего отнюдь не с радостью…
Впрочем, Вольтер, как и любой публицист, занимался в первую очередь мифотворчеством. Вот и в написанной им Истории наиболее занимательным и актуальным остается именно мифологический пласт, скрытый под риторическими красотами. Обратившись к анализу этого «текста под текстом», мы замечаем, что отбор мифологем проведен довольно последовательно, действительно в пользу России – так, как Вольтер ее понимал – и в соответствии не столько с исторической, сколько с иной, политической логикой.
Для примера достаточно обратиться к описанию посещения Петром I Франции в 1717 году, о котором нам довелось уже коротко говорить выше. На время этого визита славный муж, историю которого Вольтер писал, покинул мало знакомые французскому просветителю пределы скифской своей родины и прибыл в более чем знакомый ему Париж. Вот, казалось бы, золотая возможность уделить время и место действительно важному событию, использовав при этом в полной мере как впечатления очевидцев, живых еще во времена Вольтера, так и подробно прокомментировав глубинные причины неудачи французской политики Петра Великого.
К нашему удивлению, именно при описании этого посещения перо французского историка движется особенно вяло. Визиту царя во Францию посвящена всего только заключительная часть главы VIII второго тома его труда. Главное, что Вольтер имел сообщить по этому поводу читателю, сводилось к тому немудреному утверждению, что «Петр Великий был принят во Франции так, как следовало» (“Pierre le Grand fut reçu en France comme il devait l’être”).
Между тем, еще современники отмечали, что «за невозможностью отказаться, надобно было изъявить удовольствие видеть государя, хотя регент охотно обошелся бы без его посещения»117. Были признаки, что Петр эту принужденность заметил. Любопытно, что следы некоторого взаимного неудовольствия в вольтеровском тексте прослеживаются, несмотря на всю его краткость.
Так, несколько выше, Вольтер отметил, что Петр не понимал по-французски, что лишило его самой большой пользы от посещения Франции (“il n’entendait pas la langue du pays, et par là perdait le plus grand fruit de son voyage”). Здесь Вольтер разошелся с фактом того, что Петр Алексеевич владел французским языком – скорее всего, не свободно, однако в достаточной степени, чтобы понимать общий смысл как устной, так и письменной речи.
Память об этом, небезразличная для французов, ревностно относившихся к своему языку в те времена, как, впрочем, и в наши дни, очевидцы визита сохранили. К примеру, не раз уже цитированный нами герцог де Сен-Симон подчеркнул в своих мемуарах, что «царь хорошо понимал по-французски и, я думаю, мог бы говорить на этом языке, если бы захотел; но, для большей важности, он имел переводчика; по-латыни же и на других языках он говорил очень хорошо»118.
Следует несколько анекдотов, характеристика научно-технических интересов Петра I и дежурное сравнение с мудрым скифом Анахарсисом, вскоре после которого сочинитель благополучно привел корабль восьмой главы в гавань, умудрившись обойти по дороге все подводные рифы119… Разумеется, назвать все это, коротко описанное выше описание историей было бы некорректным. Однако оно стало бы более чем конструктивным, если бы политические линии Петербурга и Версаля пошли на сближение и их нужно бы было возвести к эпохе «отцов-основателей».
Собственно, в этом духе построена идеология вольтеровской Истории Петра Великого в целом. Произведя разумный отбор исторических фактов и суждений, французский публицист заложил в середине XVIII столетия основания идеологического конструкта, возводившего истоки французско-российского сближения к достаточно мифологизированным фигурам Петра I и Людовика XV120.
Приняв во внимание аргументы этого плана, не приходится удивляться тому, что, взявшись за сбор подготовительных материалов к Истории Петра I, А.С.Пушкин избрал книгу Вольтера в качестве основного источника для описания основных событий, произошедших во время визита 1717 года в Париж.
117
См.: О пребывании Петра Великого в Париже в 1717 году. Из записок герцога де Сен-Симона / Пер. с франц. // Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб, 1993, с.140.
118
Цит.соч., с.144.
119
Столь же коротким осталось и сообщение об основании Петербурга, помещенное Вольтером в середине главы XIII первого тома разбираемого сочинения. Коротко изложив историю взятия Ниеншанца, для важности произведенного писателем в «значительное укрепление» («une forteresse importante»), он поставил акцент на трудностях обустройства в пустынной и болотистой местности («ce terrein desert et marécageux») потребовавших неисчислимых жертв.
120
В большей степени, пожалуй, регента – упомянутого в предшествующем изложении Филиппа Орлеанского – поскольку во время визита Петра I, король Франции был еще мальчиком.