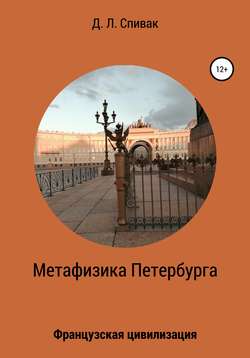Читать книгу Метафизика Петербурга: Французская цивилизация - Дмитрий Леонидович Спивак - Страница 23
Глава II. От короля Людовика XV – до гражданина Луи Капета
Русско-французские отношения в екатерининскую эпоху
ОглавлениеИдея стратегического союзничества со Швецией, Польшей и Турцией продолжала служить поистине путеводной нитью для французской дипломатии в ее восточной политике. В царствование же Екатерины II, Россия продолжала теснить шведов, приняла самое деятельное участие в последовательно проведенных трех разделах Польши, и более чем успешно воевала с Турцией.
Как помнят историки, при дворе великой императрицы была сформулирована и идея так называемого «греческого проекта», в задачи которого входило удаление Турции из Европы и воссоздание на берегах Босфора православного греческого царства под эгидой России. Многое указывало на то, что и он может увенчаться успехом. В этих условиях, наиболее дальновидные французские политики стали все более серьезно задумываться о смене приоритетов на востоке. Кстати, заметим, что одним из первых во Франции, кто поддержал сей прожект – а по другим данным, даже и заронил его в ум русской царицы – был, как ни странно, Вольтер.
Переговоры велись в Петербурге, однако решающий импульс они получили с юга. Присоединив Новороссию и Крым, Россия приступила к созданию черноморского флота, строительству военно-морской базы в Севастополе, оборудованию или расширению целого ряда портов и торгово-перевалочных пунктов по всему северному берегу Черного моря. Тут важно было не опоздать, как на Балтийском и Белом морях.
Дело все было в том, что, получив известные преференции еще в петровские времена, голландские и в особенности английские купцы практически монополизировали в более позднее время торговлю с Россией на «северных морях». Вполне соответствовавшая духу еще средневековой Ганзы, эта линия поведения нашла себе выражение в русско-английском торговом договоре 1734 года, который не раз потом продлевался. У англичан были сильные сторонники и покровители в самых различных слоях петербургского общества, в том числе и при дворе, где «английскую партию» возглавлял всесильный князь Григорий Потемкин.
Что же касалось до «южных морей», то позиции Франции в средиземноморской торговле были пока вполне прочными – прежде всего, благодаря альянсу с турками, традиционному для обеих сторон. Британия, все с большим основанием ощущавшая себя «царицей морей», пока еще не освоилась в водах, омывающих берега южной Европы. В этих условиях, именно французская торговля могла быстро и эффективно вдохнуть жизнь в порты Новороссийского края, к чему Екатерина II, равно как и Г.А. Потемкин-Таврический, не могли не стремиться. «Новороссийский проект» был, вообще говоря, любимым детищем князя Григория Александровича, что само по себе поддало ветра в паруса французской дипломатии.
Французский посол, молодой граф Луи-Филипп де Сегюр, принадлежал к кругу аристократии времен короля Людовика XVI (отец его позже получил пост военного министра). Он был разносторонне одарен, прекрасно начитан и знаком со всеми тонкостями версальской придворной жизни. При всем этом, тридцатилетний граф был храбрым человеком: ему довелось принять участие в Войне за независимость США и достойно себя проявить.
Столица Российской империи произвела на молодого дипломата неоднозначное, но сильное впечатление. «Петербург представляет уму двойственное зрелище: здесь в одно время встречаешь просвещение и варварство, следы X и XVIII веков, Азию и Европу, скифов и европейцев, блестящее гордое дворянство и невежественную толпу. С одной стороны – модные наряды, богатые одежды, роскошные пиры, великолепные торжества, зрелища, подобные тем, которые увеселяют избранное общество Парижа и Лондона; с другой – купцы в азиатской одежде, извозчики, слуги и мужики в овчинных тулупах, с длинными бородами, с меховыми шапками и рукавицами и иногда с топорами, заткнутыми за ременными поясами. Эта одежда, шерстяная обувь и род грубого котурна на ногах напоминают скифов, даков, роксолан и готов, некогда грозных для римского мира. Изображения дикарей на барельефах Траяновой колонны в Риме как будто оживают и движутся перед вашими глазами»,– писал граф, искренне сожалея о том, что тут довелось побывать слишком малому числу его соотечественников123.
В скором времени положение изменилось, поскольку немало французских роялистов почли за лучшее бежать из охваченного революционными потрясениями Парижа в сады «северной Семирамиды». За ними последовали в свой черед и любознательные путешественники, которых неизменно охватывало амбивалентное чувство, совмещавшее сознательное восхищение перед красотой города и неясное, почти подсознательное опасение перед толпой варваров, копящих здесь, «на краю Азии» мощь, которая может обрушиться и на Западную Европу. Нашедшая таким образом оформление в мыслях Сегюра двойственная, привлекательная и опасная метафизика Петербурга нашла себе продолжение в трудах таких его соотечествеников и преемников в деле постижения духа нашего города, как граф де Местр и маркиз де Кюстин.
При дворе Екатерины II, французский посол был встречен доброжелательно. Вскорости он вошел в избранный круг придворных, приглашавшихся царицей на ее “petites soirées”, где ему довелось принимать деятельное участие в разнообразных, но неизменно милых забавах и шалостях. Иногда описывали в юмористических тонах некого «Бамбукового короля», прозванного так для того, чтобы остроты никто не мог принять на свой счет. В другое время писали по очереди ответы на всякие вопросы – например, «Что меня смешит». Доводилось и составлять вместе пиески на сюжет, заданный какой-либо французской пословицей, например: “Il n’y a point de mal sans bien”124.
Другой раз играли в буриме, рифма была задана вполне куртуазная: “amour – frotte – tambour – note”125. Большинство владевших техникой французского стиха участников и написали нечто в духе принятых тогда «милых непристойностей», чего и следовало ожидать. Верный принципу быть всегда изобретательным в лести, де Сегюр обратился мыслью к государственному положению России, и написал следующее:
“De vingt peoples nombreux Catherine est l’amour:
Craignez de l’attaquer; malheur à qui s’y frotte!
La renommée est son tambour,
Et l’histoire son garde-note”.
«Эта похвала понравилась и заслужила себе более похвал, чем иная ода», – с гордостью вспоминал граф через много десятков лет в своих записках126. Оно и немудрено: можно представить себе, как польщена была императрица, никогда не забывавшая государственных дел за забавами и чувствительная к мнению европейцев, в особенности же галантных французов.
Получить аудиенцию у императрицы ценилось весьма высоко; войти в ее избранный круг значило все – как это испокон веков было заведено при любом дворе… Не вызывает сомнения, что мысль о целесообразности заключения первого в истории обеих великих стран «Договора о дружбе, торговле и навигации» получила свое первоначальное оформление в этом интимном кругу лиц.
Круг вопросов, переданных для обсуждения дипломатам обеих сторон, оставался между тем довольно обширен, а частично и осложнен разного рода побочными соображениями. Так, Франция добивалась статуса «наиболее благоприятствуемой нации», которого ей, преимущественно из опасения осложнений с другими торговыми партнерами, царская дипломатия давать не хотела. С другой стороны, импорт российского железа на французский рынок мог подорвать позиции шведов, и вызвать их энергичные протесты, чего Франция в свою очередь допускать не хотела; на том список затруднений отнюдь не кончался.
При иных условиях, почти что над каждым из этих вопросов можно было сидеть годами. Но тут все сложилось совсем по-другому. Французские переговорщики имели возможность заметить, что их русские визави получили с самого верха доверительное предписание скорей кончить дело ко взаимному удовольствию. В последний день уходившего, 1786 года Договор, на который обе стороны возлагали большие надежды, был благополучно подписан. Граф де Сегюр не имел даже особой возможности насладиться полнотой своей победы над посланниками соперничавших государств. Всего через две недели, он был приглашен императрицей в поездку по новообретенным областям прекрасной Тавриды и с удовольствием присоединился к ее свите.
«Договор о дружбе, торговле и навигации, заключенный в Петербурге 11 января 1787 г. (31 декабря 1786 г. по старому стилю) стал своего рода кульминацией русско-французских отношений в XVIII веке. Он открывал широкие перспективы развитию торговых связей между двумя странами и, что самое главное,– предусматривал налаживание тесного политического сотрудничества России и Франции»,– подчеркнул один из ведущих отечественных специалистов в области истории русско-французских отношений127.
Последовавшее вскоре, почти одновременное нападение на Россию как Турции, так и Швеции, отнюдь не утративших расположения версальского двора, остановили развитие этой тенденции русско-французских отношений, которая восходила, как нам уже довелось говорить, к любимым геополитическим идеям Петра Великого. Ну, а далее тронулась лавина французской революции, решительно изменившая весь облик старой Европы.
123
Сегюр Л.-Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II / Пер. с франц. // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989, с.327.
124
«Нет худа без добра» (франц.). Об атмосфере этих «интимных вечеров» в императорском Эрмитаже подробнее см.: Пыляев М.И. Старый Петербург. М., 1990, с.206-208 (репринт второго издания 1889 года).
125
«Любовь – затронуть – барабан – запись».
126
«Екатерина – предмет любви двадцати народов / Не нападайте на нее: беда тому, кто ее затронет! / Слава – ее барабанщик, / А история – памятная книжка» (цит. по: Сегюр Л.-Ф. Цит. соч., с.408; оговоримся, что процитированная эпиграмма была написана в 1787 году, во время путешествия по России в составе царицыной свиты).
127
Черкасов П.П. Русско-французский торговый договор 1787 года // Россия и Франция. XVIII-XX века. Выпуск 4. М., 2001, с.59 (курсив наш). Более общий контекст данной положения дел представляет более ранняя монография указанного автора: Двуглавый орел и королевские лилии: Становление русско-французских отношений в XVIII веке, 1700-1775. М., 1995.