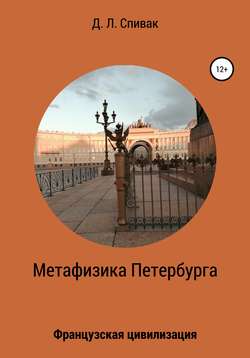Читать книгу Метафизика Петербурга: Французская цивилизация - Дмитрий Леонидович Спивак - Страница 32
Глава II. От короля Людовика XV – до гражданина Луи Капета
Французское просвещение в Петербурге первой половины XVIII века
Оглавление«Неслыханная честь, которую русские люди оказывают нашему языку, должна нам дать представление о том, с каким воодушевлением творят они на своем собственном, и заставить нас краснеть за все те пошлые писания, от которых не спастись в наш гнусный и нелепый век. Легкомыслие, столь стремительно пришедшее у нас на смену варварству, множество безвкусных писаний в прозе и стихах, которые нас одолевают и бесчестят; нескончаемый поток литературных новостей и ежегодников, этих лексиконов лжи, продиктованных голодом, неистовой злобой и лицемерием; все это должно показать нам, сколь мы вырождаемся, тогда как иностранцы, совершенствуясь с помощью наших лучших образцов, нас же и учат. И это отнюдь не единственный урок, который преподнес нам Север»190.
Так писал в середине 1770-х годов бесспорный «властитель дум» читающей и мыслящей публики как Франции, так и всей Европы Вольтер – литературный и общественный деятель, достаточно уже знаменитый, чтобы прибегать к лести, тем более применительно к иностранному литератору. Под Севером в приведенной цитате следует понимать Россию, а под уроком – появившееся незадолго до этого во французской печати стихотворное «Послание к Нинон Ланкло», принадлежавшее перу русского поэта графа Андрея Шувалова (родственника елизаветинского фаворита и ломоносовского покровителя).
Весьма пространный текст шуваловского Послания, занимавшего более ста пятидесяти строк) был написан с таким литературным мастерством, что парижские литераторы того времени буквально отказывались верить, что он был от начала до конца написан человеком, который родился и вырос не во Франции. Более того, обратив внимание на то, что в тексте Послания были рассыпаны тонкие похвалы уму и таланту Вольтера, некоторые французские публицисты предположили, что автором стихов сам он, Вольтер, и был!
Выходило так, что стареющий мэтр, отнюдь не насытившись похвалами, которые пела ему вся Европа, решился выступить сам, на этот раз под маской «мудрого скифа» – с тем, чтобы добавить елея своему гению – и надеялся, что публика этого не заметит. Такое предположение было для Вольтера уже просто обидным и даже опасным, так что его пришлось спешно опровергать, замечая, что он принимает безропотно похвалы русского графа только затем, чтобы не обидеть чистосердечного друга.
Положим, шуваловские поэтические экзерсисы погоды в русско-французских культурных контактах не делали. Во все времена у нас находились аристократы, у которых было достаточно средств, чтобы подолгу жить в Париже, вращаться там в литературных кругах и печатать свои французские сочинения за собственный счет. Однакоже стоит заметить, что приведенные слова Вольтера сказаны на счет не одного «благородного гиперборейца», но «русских людей», оказывавших «неслыханную честь» его языку.
О целом народе речь в данном случае не шла. Но применительно к образованным людям – прежде всего, к русским дворянам – высказывание Вольтера было вне всякого сомнения справедливым. В течение всего XVIII столетия мы видим непрерывное нарастание интереса к французскому языку и культуре на территории всей России – и прежде всего, в Санкт-Петербурге, где культурные процессы, базовые для «петербургской цивилизации», разворачивались в опережающем и многократно усиленном порядке.
«Итак, перед нами не билингвиальность, а двуязычие культуры (вернее, диглоссия): определенные сферы русской культуры интересующей нас эпохи могут обслуживаться только французским языком и моделироваться преимущественно средствами французской литературы»,– заметил Ю.М.Лотман в работе, специально посвященной примерно столетию от царствования Анны Иоанновны до времени Николая I, которое он определил как эпоху наиболее интенсивного развития франкоязычной ветви русской литературы191. Стоит заметить, что и за пределами таких сфер культуры французское влияние было таким сильным, что его невозможно переоценить.
Процесс распространения французского языка и культуры был у нас постепенным; он начался еще в петровские времена. С одной стороны, основная ориентация была, как известно, взята на Голландию, Англию – вообще, протестантские страны Северной Европы. С другой стороны, Франция виделась как перспективный культурный партнер и одна из наиболее сильных стран европейского континента. Как следствие, документы петровского времени отражают некоторое колебание относительно того, каким языкам давать приоритет при образовании российского юношества.
К примеру, в известном нартовском собрании «Достопамятных повествований и речей Петра Великого», под номером 104, читаем, что «надобными для России языками почитал он голландский и немецкий. «А с французами,– говорил он,– не имеем мы дела»192. Рассказ приурочен к 1716 году. Между тем, уже в 1703 году, в инструкции по обучению наукам и искусствам царевича Алексея Петровича, французский определен «паче всех языков легчайшим и потребнейшим».
Такая ориентация была подтверждена и в «Расположении учений его Императорского величества Петра II»: «Новые или так называемые живые языки употребляются к обходительству, и сие за украшение почитается, когда кто чужие языки знает… между ныне употребляемыми языками без сомнения немецкий и французский ради их почти общего употребления великое перед протчими первенство имеют»193.
В продолжение «аннинского десятилетия» позиции немецкого языка значительно укрепились, что было естественным следствием перехода на русскую службу и переселения в столицу курляндских, лифляндских и прочих немцев, осознанного в народе как «немецкое засилье». Вместе с тем, современники отмечали, что французский язык нашел себе достаточно широкое распространение в речи как постоянных, так и временных жителей Петербурга.
«В моей квартире жила вдова одного английского купца, сыну которой всего двенадцать лет, но он вполне хорошо, хотя и неправильно, говорил на восьми разных языках, а именно английском, французском, голландском, шведском, русском, польском, лифляндском и финском. Но сколь много языков понимают выросшие в Петербурге люди, столь же скверно они на них говорят. Нет ничего более обычного, чем когда в одном высказывании перемешиваются слова трех-четырех языков. Вот, например: “Monsiieur, Paschalusa, wil ju nicht en Schalken Vodka trinken. Isvollet, Baduska”. Это должно означать: «Мой дорогой господин, не хотите ли выпить стакан водки. Пожалуйста, батюшка!»… В Петербурге надо ежедневно воспринимать с серьезным лицом забавные истории, которые рассказывают о говорящих по-немецки и неверно переводящих слова французах; например, маленькую овечку они называют «мадемуазель овца» и т.п.»194.
Положим, мемуарист немного сгустил краски при описании нашего «северного Вавилона». Однако характерное для тогдашнего Петербурга смешение языков, равно как участие в нем носителей французского языка, было им передано в общих чертах верно.
Как нам уже доводилось отмечать выше, французов было тогда в городе отнюдь не так много, как, скажем, немцев. Но тут нужно принять во внимание, что французский язык стал уже языком международной дипломатии и торговли и продолжал укреплять свои позиции. Поэтому его естественно было использовать в качестве «языка-посредника» при общении между носителями разных языков, то есть в тех ситуациях, которые фон Хавен и описывал.
190
Цит. по: Заборов П.Р. Русско-французские поэты XVIII века // Многоязычие и литературное творчество. Л., 1981, с.79.
191
Лотман Ю.М. Русская литература на французском языке // Idem. Избранные статьи в трех томах. Том II. Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины XIX века. Таллин, 1992, с.354 (статья была написана в 1988 году).
192
Нартов А.К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого // Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб, 1993, с.301 («он» – это, конечно, Петр I).
193
Цит. по: Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII – XIX вв. М., 1938, с.58.
194
Педер фон Хавен. Путешествие в Россию / Пер. с датского // Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. СПб, 1997, с.360.