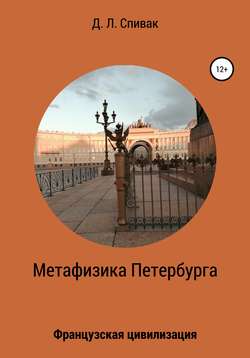Читать книгу Метафизика Петербурга: Французская цивилизация - Дмитрий Леонидович Спивак - Страница 24
Глава II. От короля Людовика XV – до гражданина Луи Капета
Французские мэтры в Петербурге XVIII века
ОглавлениеК известному отчуждению между двумя странами нужно добавить также политику французских властей, сознательно ставивших препятствия на пути эмиграции, тем более – выезда за границу лиц, хорошо владевших каким-либо ремеслом или художеством. В свою очередь, русские власти испытывали постоянный недостаток иностранных специалистов и были готовы пойти на очень значительные расходы затем, чтобы сманить их к себе на службу – прежде всего, в недавно заложенный Санкт-Петербург.
Закрыть пределы французского королевства герметически было делом заведомо невозможным. Как следствие, общей тенденцией XVIII столетия стало расширение французской иммиграции в Россию, начавшейся, так сказать, с индивидуальных контрактов в эпоху Петра I и приобретшей черты массовости уже во времена его царственной дочери.
«Французская трудовая иммиграция в России, робко начавшаяся со времен Петра I, обрела при Елизавете Петровне столь заметные масштабы, что версальский кабинет не на шутку встревожился «утечкой мозгов» и квалифицированных работников из Франции. Герцог Шуазель в бытность свою министром иностранных дел чинил всевозможные преграды выезду подданных короля в Россию и неоднократно делал соответствующие внушения графу М.П.Бестужеву-Рюмину и последующим русским представителям при версальском дворе. Тем не менее «ползучая иммиграция продолжалась и с вступлением на русский престол Екатерины II.
В служебной переписке ее посланника в Париже князя Д.А.Голицына за 1763-1767 гг. можно найти немало упоминаний о настойчивых просьбах отдельных французов самых разных сословий и званий относительно перехода на русскую службу или даже в российское подданство. Эта тенденция продолжалась и впоследствии, когда русское правительство стало предъявлять весьма высокие требования к искателям счастья в России, среди которых были ученые и профессиональные военные, архитекторы и учителя, крестьяне-виноградари и мастеровые, но также и авантюристы»,– верно заметил цитированный уже нами П.Д.Черкасов128.
Любопытно, что этот вопрос всплыл и в ходе переговоров, предшествовавших заключению знаменитого русско-французского торгового договора 1787 года, о котором нам только что довелось рассказать. Как это ни удивительно, но русские крепостники практически до конца стояли на той точке зрения, что если какой человек захотел бы покинуть, скажем, Францию и переехать хотя бы в Россию, то никто не был бы вправе чинить ему препятствий. Французские же переговорщики, все более или менее подверженные влиянию идей Просвещения, из принципа противостояли признанию этого права. Как видим, широкие массы французов рассматривали «петербургскую империю» как своего рода «Новый Свет» – место возможного приложения своих способностей и талантов.
Начала этой политики, как всё в новой России, и прямо, и косвенно восходили к Петру Великому. Историки русской культуры напоминают в связи с этим об известной инструкции, адресованной осенью 1715 года Петром I одному из своих доверенных лиц в Париже, сразу же после смерти Людовика XIV. «…Понеже король французский умер, а наследник зело молод, то, чаю, многие мастеровые люди будут искать фортуны в иных государствах, для чего наведывайся о таких и пиши, дабы потребных не пропускать»,– в своем характерном стиле, совмещавшем смекалку с широким общекультурным кругозором, писал Петр129.
Иное общеизвестное высказывание дальновидного монарха сохранил для потомков один из сотрудников государя, Андрей Нартов. В анекдоте 39 своего собрания, изданного под заглавием «Достопамятные повествования и речи Петра Великого», он писал: «По случаю вновь учрежденных в Петербурге ассамблей или съездов между знатными господами похваляемы были в присутствии государя парижское обхождение, обычай и обряды, на которые отвечал он так: «Добро перенимать у французов художества и науки. Сие желал бы я видеть у себя, а в прочем Париж воняет»130…
Действительно, уже в царствование Людовика XIV Франция вошла в число стран, определявших развитие науки и культуры, технологии и организации производства Европы, а следовательно – и мира. Что же касалось роскоши и расточительства версальского двора, бывших поистине безумными, то и они получили более чем обширную известность «в стране и в мире», немало способствуя впоследствии успехам революционной пропаганды.
Впрочем, страшную катастрофу французской монархии предвидели тогда очень немногие. Что же касалось до выгод, предоставлявшихся приезжим специалистам в России, то они были вполне очевидными, что и повлияло на решение многих специалистов перебраться на берега Невы. К архитектуре нам предстоит обратиться далее. Что же касалось иных искусств, то еще в петровские времена у нас появился выдающийся французский скульптор Никола Пино, ставший автором целого ряда резных и лепных композиций, необыкновенно украсивших петергофские дворцы. Сработанные им статуи римских богинь, Минервы и Беллоны, по сей день стоят по сторонам Петровских ворот – главного входа в Петропавловскую крепость и одной из фокальных точек на сакральной карте Петербурга от петровской эпохи – до наших дней.
Для русской скульптуры времен классицизма особо важным стало педагогическое и художественное творчество Н.Жилле. «Школу Н.Жилле, заложившую основы классического ваяния в России, прошли все ведущие русские скульпторы второй половины XVIII века, окончившие петербургскую Академию художеств: Ф.Гордеев, М.Козловский, И.Прокофьев, Ф.Щедрин, Ф.Шубин, И.Мартос и другие»,– подчеркнул современный исследователь131.
В отечественной живописи первой половины XVIII столетия, блистал Луи Каравакк, занявший место придворного живописца во времена императрицы Анны Иоанновны. Вероятно, читателю памятны написанные им большие парадные портреты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны – равно как и маленькое, решительно необычное для нашей тогдашней портретной живописи, изображение последней из названных особ в ту пору, когда она была еще ребенок. Голенькая малютка помещена живописцем на горностаевой мантии; вид ее умилителен и совершенно неотразим.
В изобразительном искусстве середины восемнадцатого века немаловажным представляется несколько уже подзабытое творчество французского живописца Л.Токке. «Уровень его живописной культуры, высоко оцененный влиятельными русскими заказчиками, служил своеобразным ориентиром для художников и заказчиков, все заметнее тяготевших к совершенному и изящному искусству»132.
Ближе к концу столетия, положение существенно изменилось. Для того, чтобы обратить на себя внимание в тех условиях, когда деятельно работали Рокотов и Левицкий, надобно было располагать выдающимся дарованием. Тем не менее, в екатерининскую эпоху у нас выдвинулись такие выдающиеся мастера, как вальяжный Александр Рослин (швед по рождению, но француз по школе и духу). Он умудрился написать портрет Екатерины II на такой своеобразный манер, что та потом долго его поминала, удивляясь, как можно в облике такого нежного создания, как она, разглядеть черты, как выразилась государыня, какой-то «шведской кухарки». Впрочем, в какую эпоху женщины были довольны своими изображениями…
Пользовался успехом в Петербурге тех лет и значительно более деликатный Жан-Луи Вуаль, прославившийся своей трогательной и печальной розово-серо-голубоватой палитрой.
На протяжении века, перебирались к нам из Франции и мастера декоративно-прикладного искусства. Поскольку таковых приезжало явно недостаточно для нужд нашего обширного государства, уже в петровские времена была найдена оптимальная форма организации их труда. Приезжий специалист возглавлял мастерскую и принимал в нее для обучения и совместного труда более или менее подготовленных местных учеников, которые и должны были «с лёта» перенимать секреты профессии, равно как и более общего искусства соподчинять разные элементы стилевого убранства. Вскоре после визита Петра I в Париж, у нас появились первые лепщики, резчики по дереву, литейщики и другие мастера, работавшие по этому принципу.
В том же, 1717 году была у нас заведена и Шпалерная мануфактура, специализировавшаяся на выработке гобеленов. Сначала она располагалась в Екатерингофе, но позже была переведена ближе к центру города – откуда, кстати, произошло название теперешней Шпалерной улицы. «Организованная по типу французской королевской гобеленовой мануфактуры, она вначале и обслуживалась приезжими мастерами-французами, которые должны были обучать русских учеников. Но французы делали это неохотно и вскоре были уволены. Остался один мастер Филипп Бегагль. В 1719 году туда набрали «грамоте умеющих» молодых ребят. Под руководством мастера они вскоре дошли «до совершенства»133.
В самом начале екатерининской эпохи, к нам перебрался талантливый ювелир Л.-Д.Дюваль, много и плодотворно работавший по заказам двора. К концу жизни, этот «Фаберже восемнадцатого столетия» получил разрешение на открытие в Петербурге собственной фирмы под названием «Дюваль и сыновья», в которой, в самом тесном контакте с собственно ювелирами, работали также художники-миниатюристы и представители других смежных специальностей. В Эрмитаже хранится целый ряд произведений, выполненных под наблюдением этого мастера.
Не представляется возможным забыть и о геральдическом деле, которое Петр I положил завести в Российской империи в самом конце своего царствования. У истоков его в нашей стране встал граф Франциск (Франческо) Санти, которого царь своим личным указом назначил в 1722 году на должность товарища (то есть заместителя) герольдмейстера. Граф был, собственно, уроженцем Пьемонта, но в юности перебрался в Париж, где получил образование, включавшее изучение истории и наук, «прилежащих к генеалогии». Генеалогия и геральдика, игравшие исключительно важную роль в жизни дворянского общества Западной Европы, получили во Франции глубокую и разностороннюю разработку и развитие.
Санти был представлен Петру в Амстердаме, в 1717 году – то есть по дороге в Париж. Он произвел на царя весьма благоприятное впечатление и был сразу же приглашен на службу. Всего ему довелось усовершенствовать или заново сочинить более ста тридцати «провинциальных и городовых гербов». К последним относился и герб Санкт-Петербурга, который получил свою окончательную форму и был утвержден уже после смерти Петра I – хотя, несомненно, соответствовал его вкусу и устным пожеланиям134.
Не повторяя известных французских эмблем, Санти отказался и от изображения «золотого пылающего сердца под золотою короною и серебряной княжеской мантией», которое было включено в Знаменной гербовник времен Северной войны. На первое место он вывел тот прагматизм, который пронизывал красной нитью петровскую идеологию. Так на гербе «северной столицы» его карандаш вывел «скипетр жолтой, над ним герб государственный, около него два якоря серебряные, поле красное. Сверху корона императорская»135. С тех пор эта эмблема находится в употреблении по сей день – за вычетом перерыва, о котором отечественному читателю нечего долго напоминать.
128
Черкасов П.П. Русско-французский торговый договор 1787 года // Россия и Франция. XVIII-XX века. Выпуск 4. М., 2001, с.37-38.
129
Цит. по: Овсянников Ю.М. Великие зодчие Санкт-Петербурга. Трезини. Растрелли. Росси. СПб, 2000, с.208.
130
Курсив наш. По изысканиям современных историков, записки Нартова были, по всей вероятности, переработаны его сыном Андреем Андреевичем – что, впрочем, не умаляет существенно их достоверности. Заметим, что в ходе визита 1717 года Петр I произвел на французских академиков настолько благоприятное впечатление, что был ими вскоре избран своим иностранным общником. Всего же с петровского времени до наших дней французы избрали 46 россиян иностранными членами своей Академии наук, а мы – вчетверо больше (полные списки с необходимыми комментариями приведены в публикации: Русско-французские научные связи / Ред. А.П.Юшкевич. Л., 1968, с.22-30, 87-93).
131
Кириллов В.В. Скульптура // Очерки русской культуры XVIII века. Часть четвертая. М., 1990, с.89.
132
Евангулова О.С. Живопись // Очерки русской культуры XVIII века. Часть четвертая. М., 1990, с.128.
133
Мавродин В.В. Основание Петербурга. Л., 1978, с.116.
134
См.: Вилинбахов Г.В. Основание Петербурга и имперская эмблематика // Семиотика города и городской культуры: Петербург \ Труды по знаковым системам. XVIII. Тарту, 1984, с.46-54.
135
См.: Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. М., 1985, с.55-59, 158.