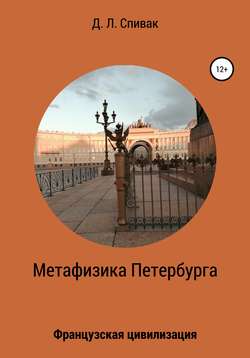Читать книгу Метафизика Петербурга: Французская цивилизация - Дмитрий Леонидович Спивак - Страница 31
Глава II. От короля Людовика XV – до гражданина Луи Капета
«Медный всадник»
Оглавление«Предположение русской императрицы создать памятник Петру Великому заслуживает одобрения всех наций, а выбор ее для работы Фальконе делает столь много чести французским художникам, что я буду способствовать всеми силами его осуществлению, поскольку это от меня зависит», – писал летом 1766 года российскому послу директор королевских строений маркиз де Мариньи186. Действительно, французские власти сделали все, что от них зависело для того, чтобы известнейший парижский скульптор Этьен-Морис Фальконе в самые сжатые сроки подписал контракт, получил заграничный паспорт и выехал в Россию с целью создания памятника Петру I.
Идея сооружения монумента витала в воздухе с петровских времен. Историкам известен целый ряд карт, перспективных изображений и описаний, созданных как в нашей стране, так и за рубежом в начале и середине XVIII столетия, на полях которых изображен реально не существовавший, однако желательный – или, как сейчас говорят, виртуальный – памятник Петру Великому, чаще всего в виде конной статуи. Почти все приезжие французские мэтры, о которых нам довелось говорить в предшествующем изложении – прежде всего, Леблон, Пино, Жилле, Валлен-Деламот – оставили после себя эскизы такого монумента, иной раз недурно проработанные.
Нужно сказать, что все эти замыслы были отнюдь не оригинальны. Установка в престижных местах, нередко на центральных площадях, конных памятников славным деятелям прошлого, а то и настоящего, представляла собой в ту эпоху едва ли не самый популярный способ формирования монументального «текста города»; впрочем, с тех лет мало что изменилось. Во Франции классическими образцами таких памятников могли послужить конные монументы Людовику XIV и его правнуку Людовику XV, выполненные соответственно Ф.Жирардоном и Ж.-Б.Лемуаном. Последний был, кстати, учителем Фальконе и постоянным его корреспондентом.
Портретная статуя Петра I на коне, хорошо соответствовавшая канонам этой традиции, вполне утвердившейся в европейском искусстве, была к тому времени, собственно, уже создана. Мы говорим, разумеется, о монументе, выполненном Бартоломео-Карло Растрелли, отливка которого была благополучно проведена под наблюдением его сына к концу 1740-х годов. Несмотря на это, памятник решено было не устанавливать, поскольку стиль его воспринимался Екатериной II и ее современниками как безнадежно устаревший. Эпоха Просвещения требовала новых подходов к традиционной теме.
Фальконе и был избран не только по той причине, что его профессиональная квалификация не вызывала сомнений, но и потому, что он был свой человек в среде французских просветителей. Более того, ему довелось принять участие в качестве соавтора в создании одного из их важнейших интеллектуальных проектов, а именно «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», каждая строка которой была написана или отредактирована так, чтобы нанести наибольший урон феодальному строю. В 1759 году, Энциклопедия была запрещена к публикации и распространению во Франции, что лишь подогрело общественный интерес к ней и, как мы видим, не помешало Фальконе делать профессиональную карьеру.
Энциклопедисты в один голос рекомендовали русской царице своего друга и сотрудника. «Вот гениальный человек, полный всяких качеств, свойственных и несвойственных гению. В нем есть бездна тонкого ума, деликатности и грации: он мягок и колок, серьезен и шутлив, он философ, он ничему не верит и не знает почему»,– писал Екатерине II барон Гримм, передавая отзыв Дидро о Фальконе и продолжал: «Он лепит глину, обрабатывает мрамор и в то же время читает и размышляет. Этот человек думает и чувствует с величием». Выделенные нами в предыдущей цитате слова передают высшую оценку, которая возможна была в кругу «новых людей».
Весьма существенным для нашей темы представляется то, что общая мысль монумента возникла у Фальконе еще в Париже. В дальнейшем он упорно придерживался ее, обращая мало внимания на многочисленные критические отзывы и рекомендации окружающих, не исключая самой императрицы. В одном из писем к Д.Дидро, он вспоминал тот врезавшийся в его творческое сознание, поистине судьбоносный день, «… когда я набросал на углу Вашего стола героя и его коня, перескакивающего через эмблематическую скалу, и Вы были довольны моей идеей». Поскольку Э.-М.Фальконе до того не бывал в России и знал о Петре I лишь их французских источников вроде упоминавшейся нами уже вольтеровской Истории, нам остается признать, что замысел славного монумента целиком принадлежал руслу французской культуры эпохи Просвещения.
Нужно оговориться, что вкусы самих просветителей были довольно традиционными. К примеру, Дидро представлялось уместным устроить фонтаны в толще постамента, бассейн у его основания и поместить аллегорические изображения как посрамленного варварства, так и осчастливленного народа у краев такового. Какое счастье, что Фальконе ослушался друга и не одарил петербуржцев этакой, с позволения сказать, достопримечательностью!
При всем том, нельзя сказать, чтобы идея предельного упрощения, сжатия образа до ядерной, почти что архетипической плотности, нашедшая себе полное воплощение в знакомом нам памятнике, установленном 7 августа 1782 года на Сенатской площади187, решительно уклонялась от идеалов французского Просвещения. Она просто облагораживает их, возвышая до той разреженной области духа, где может свободно дышать только прирожденный гений.
Любопытно, что в известном письме к Дидро, Фальконе следовал двум принципиально различным линиям аргументации при защите своего проекта. С одной стороны, он считал необходимым убавить поэзии, чтобы сосредоточить внимание на образе «творца, законодателя, благодетеля своей страны». С другой стороны, скульптор отметил, «… что Петр Великий сам себе сюжет и атрибут: остается только его показать».
Первое суждение – эстетическое; оно подразумевает отказ от излишнего украшательства, естественного для мастеров эпохи барокко, которое стало предосудительным для скульпторов, работавших в парадигме классицизма. Но если бы Фальконе верно следовал канонам классицизма, то Петербург получил бы нечто совсем другое, ближе всего стоящее по стилю к безупречно корректной Александровской колонне188.
Кстати, в дальнейшем сравнение обоих памятников стало у нас общим местом – и отнюдь не всегда в пользу грозного “Cavalier d’airain”189. К примеру, такой тонкий ценитель искусства, как В.А.Жуковский, писал в 1834 году, что грубость фальконетова произведения может быть оправдана разве что тем первобытным состоянием, в котором Отечество пребывало в эпоху Петра. Вот монферранова колонна – другое дело, она стройна и искусно округлена, как и сама страна, обработанная и выпрямленная благодетельным самодержавием…
Второе из процитированных нами суждений Фальконе – по сути, семиотическое. Образ Петра I представлялся его творческому сознанию наподобие гигантского иероглифа, составлявшего своего рода «ядерный текст», в котором сплелись неразрывно семантика, синтактика и прагматика – текста, который можно читать всю жизнь, преобразуя свою личность, открывая все новые смыслы и разворачивая их без конца применительно к новым условиям.
Надо сказать, что присутствие этого, чисто метафизического слоя отнюдь не прошло мимо внимания проницательных современников скульптора. «Я считал Фальконета всегда очень талантливым и твердо был убежден, что он создаст великолепный монумент русскому царю, но то, что он создал, превзошло все мои ожидания»,– писал старый учитель французского гения, Ж.-Б.Лемуан, по получении от Фальконе небольшой модели его творения; этот благоприятный отзыв легко дополнить другими, более пространными.
Проблески понимания подлинного значения монумента прослеживаются также в текстах, написанных русскими литераторами – к примеру, в известных «Надписях к Камню-грому, находящемуся в Санктпетербурге в подножии конного вылитого лицеподобия достославного императора Петра Великого», опубликованных Василием Рубаном отдельным изданием по случаю открытия монумента в 1782 году.
Кстати, нужно заметить, что надпись на пьедестале сама по себе представляет шедевр отечественной словесности. Как известно, она также представляет собой плод русско-французского творчества, следовавшего линии максимального упрощения. В самом начале, текстом ее озаботился Д.Дидро и предложил Фальконе следующий вариант: «Петру Первому посвятила памятник Екатерина Вторая».
Далее, надписью занялся сам автор памятника и общих черт принял дидеротову мысль, разве что несколько сократив ее: «Петру Первому воздвигла Екатерина Вторая».
Наконец, за перо взялась сама Екатерина II, которой представилось наиболее целесообразным просто вычеркнуть среднее слово (пользуясь тем, что как латинский, так и русский язык располагают формами именительного и дательного падежа, что позволяет без лишних слов различить ктитора (дарителя) и его адресата). В итоге, на постаменте остались по четыре латинских и русских слов, вместе с обозначением даты заключившие в себя магистральную линию русской истории XVIII столетия – века Петра и Екатерины.
Однакоже до создания вербального текста, конгениального пластическому образу, созданному Фальконе, оставалось ждать еще около полувека. Мы говорим, разумеется, о «Медном всаднике» А.С.Пушкина. Подзаголовок поэмы звучал для читателей того времени достаточно странно: «Петербургская повесть» – едва ли не так же странно, как выглядел монумент Фальконе в глазах его первых критиков.
В искусствоведческой литературе можно встретить утверждение, что Этьен-Морис Фальконе добился несомненной удачи и, по всей видимости, создал лучшее монументальное произведение XVIII века – однако ему не удалось основать традиции. Такое суждение представляется разумным по чисто формальным соображениям, однако неосмотрительным «с точки зрения вечности».
Найдя себе продолжение в пушкинской поэме, памятник стронул с места лавину «петербургского текста», составившего метафизическую основу одной из великих ветвей мировой литературы. Косвенное влияние, которое оказало присутствие «Медного всадника» на творческое мышление петербургских архитекторов, также невозможно переоценить.
Таким образом, если наш город располагает зримым изображением своего основателя и «духа-хранителя», равно как людьми, продолжающими слышать своим «тайным слухом» его продолжающуюся речь, мы обязаны этим гению французского скульптора – равно как и многочисленных русских, которые вникли в его замысел и способствовали его воплощению в меди, камне и слове.
186
Цит.по: Каганович А.Л. «Медный всадник». История создания монумента. Л., 1975, с.28. Цитаты, не оговоренные специально в дальнейшем тексте настоящего раздела, приводятся по указанному источнику.
187
Точнее сказать, на Петровской площади. Как известно, наименование «Сенатская» было в ту пору неофициальным.
188
С учетом естественной разницы во времени: монферрановская колонна была установлена в 1834 году и в своем облике следовала уже канонам стадиально более позднего, «высокого классицизма».
189
Так звучит прозвище нашего Медного всадника по-французски (нередко встречается и синонимичное словосочетание “Cavalier de bronze”).